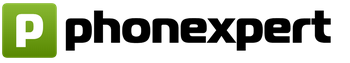Ц
ерковнославянский язык – язык, сохранившийся до нашего времени в качестве языка богослужения. Восходит к созданному Кириллом и Мефодием на основе южнославянских диалектов старославянскому языку. Древнейший славянский литературный язык распространялся сначала у западных славян (Моравия), затем у южных (Болгария) и в конце концов становится общим литературным языком православных славян. Этот язык получил также распространение в Валахии и некоторых областях Хорватии и Чехии. Таким образом, церковнославянский язык с самого начала был языком церкви и культуры, а не какого-либо отдельного народа.
Церковнославянский язык был литературным (книжным) языком народов, населяющих обширную территорию. Поскольку он был, в первую очередь, языком церковной культуры, на всей этой территории читались и переписывались одни и те же тексты. Памятники церковнославянского языка испытывали влияние местных говоров (сильнее всего это отражалось на орфографии), однако строй языка при этом не менялся. Принято говорить об изводах (региональных вариантах) церковнославянского языка – русском, болгарском, сербском и т.д.
Церковнославянский никогда не был языком разговорного общения. Как книжный он был противопоставлен живым национальным языкам. Как литературный он был нормированным языком, причем норма определялась не только местом, где был переписан текст, но также характером и назначением самого текста. Элементы живого разговорного (русского, сербского, болгарского) могли в том или ином количестве проникать в церковнославянские тексты. Норма каждого конкретного текста определялась взаимоотношением элементов книжного и живого разговорного языка. Чем важнее был текст в глазах средневекового книжника-христианина, тем архаичнее и строже языковая норма. В богослужебные тексты элементы разговорного языка почти не проникали. Книжники следовали традиции и ориентировались на наиболее древние тексты. Параллельно с текстами существовала также деловая письменность и частная переписка. Язык деловых и частных документов соединяет элементы живого национального языка (русского, сербского, болгарского и т.п.) и отдельные церковнославянские формы. Активное взаимодействие книжных культур и миграция рукописей приводили к тому, что один и тот же текст переписывался и читался в разных редакциях. К XIV в. пришло понимание того, что тексты содержат ошибки. Существование разных редакций не позволяло решить вопрос о том, какой текст древнее, а следовательно лучше. При этом более совершенными казались традиции других народов. Если южнославянские книжники ориентировались на русские рукописи, то русские книжники, напротив, считали, что более авторитетной является южнославянская традиция, так как именно у южных славян сохранились особенности древнего языка. Они ценили болгарские и сербские рукописи и подражали их орфографии.
Первой грамматикой церковнославянского языка, в современном значении этого слова, является грамматика Лаврентия Зизания (1596). В 1619 году появляется церковнославянская грамматика Мелетия Смотрицкого, которая определила позднейшую языковую норму. В своей работе книжники стремились к исправлению языка и текста переписываемых книг. При этом представление о том, что такое правильный текст, с течением времени менялось. Поэтому в разные эпохи книги правились то по рукописям, которые редакторы считали древними, то по книгам, привезенным из других славянских областей, то по греческим оригиналам. В результате постоянного исправления богослужебных книг церковнославянский язык и приобрел свой современный облик. В основном этот процесс завершился в конце XVII в., когда по инициативе патриарха Никона было произведено исправление богослужебных книг. Поскольку Россия снабжала богослужебными книгами другие славянские страны, послениконовский облик церковнославянского языка стал общей нормой для всех православных славян.
В России церковнославянский язык был языком Церкви и культуры вплоть до XVIII в. После возникновения русского литературного языка нового типа церковнославянский остается лишь языком православного богослужения. Корпус церковнославянских текстов постоянно пополняется: составляются новые церковные службы, акафисты и молитвы. Являясь прямым наследником старославянского языка, церковнославянский до сегодняшнего дня сохранил многие архаичные особенности морфологического и синтаксического строя. Он характеризуется четырьмя типами склонения существительного, имеет четыре прошедших времени глагола и особые формы именительного падежа причастий. Синтаксис сохраняет калькированные греческие обороты (дательный самостоятельный, двойной винительный и др.). Наибольшим изменениям подверглась орфография церковнославянского языка, окончательный вид которой сформировался в результате «книжной справы» XVII в.
В предлагаемой статье вопрос понимания богослужебного языка рассмотрен на историческом фоне, обозначены этапы развития церковнославянского языка, разные подходы к проблеме его понимания и связанные с ними возможности преодоления непонятности богослужения для современного человека.
Вся наша культура - это культура утраты сердца.
Митрополит Иерофей (Влахос)
Когда затронуто сердце, разум умолкает.
Генрих Манн
Вопросы, касающиеся развития церковнославянского языка, рассматриваются в курсах истории русского литературного языка и заканчиваются XVIII веком. Научных трудов много, и они так сложны, что нефилолог с трудом может в них разобраться. Начинает появляться литература о богослужебном языке конца XIX - начала XX века. Но здесь свой комплекс проблем и вопросов. Данные заметки представляют попытку протянуть единую нить от создания св. братьями Кириллом и Мефодием славянской письменности до наших дней, чтобы помочь каждому верующему сознательно определить, на каком языке ему общаться с Богом. Поэтому заранее прошу прощения у уважаемых филологов за невольное упрощение материала. Нас в первую очередь будет интересовать самый острый для наших дней вопрос - вопрос понимания.
Период IX-XIII веков
«Понимали» ли славяне богослужение на заре своей христианской цивилизации? С одной стороны, им было легче, чем нам. Когда свв. Кирилл и Мефодий создавали письменный славянский язык и делали переводы церковных служб и Священного Писания, уже сложились разные диалектные группы - южно-, западно- и восточнославянская. Но реальные различия были значительно меньше, чем, к примеру, между современными восточными и западными украинскими диалектами. Св. братья взяли за основу своих переводов живой язык славян г. Солуни, где они родились (южнославянский диалект). Их просветительская деятельность началась в Великой Моравии (западные славяне). Затем вместе с христианством письменность приходит к нашим предкам (восточным славянам) в Киевскую Русь. Около 70-80% лексики славянского языка было общеславянским наследием. Грамматический строй письменного языка и разговорных был единым. Язык в ту эпоху понимали. Но уже тогда язык богослужения не совпадал полностью ни с одним живым славянским диалектом. Филологи высказывают предположение о существовании литургического произношения, отличного от разговорного, в тот, начальный период. Начинается процесс выработки особого литургического языка - языка общения с Богом - по принципам, заложенным св. братьями. Язык обогащается заимствованиями из греческого: появляются новые слова (лексические заимствования), новые синтаксические конструкции (синтаксические заимствования), славянские слова под влиянием греческого приобретают новые значения (семантические заимствования).Богослужебный язык несет на себе черты южнославянской основы, и в сознании древнерусского человека сосуществуют одновременно южнославянские формы слов глава , ладии , нощь и древнерусские голова , лодья , ночь . Важно, что в этот период древнерусский человек воспринимает южнославянские слова не как нечто чужое, иностранное, а принимает их как свое. Церковнославянский и русский - не разные языки, а варианты одного языка. Одни филологи характеризуют эту языковую ситуации как одноязычие, другие - как диглоссию, а общее одно: разграничивались сферы употребления - на церковнославянском молились, древнерусский обслуживал деловую и бытовую сферу жизни.
Итак, язык в тот период понимали. А понимали ли молодые славянские народы, только вступившие в письменную эпоху, глубину содержания христианских текстов, ведь византийская культура есть плод величайших цивилизаций - эллинистической греко-римской и ближневосточной, уходящих своими корнями на глубину тысячелетий? «Не было семинарий, академий и теологических факультетов, а боголюбивые иноки и благочестивые христиане пили живую воду боговедения из стихир, канона, седальнов, пролога, четий-миней. Церковный клирос и амвон заменяли тогда профессорскую кафедру. За время всенощных, заутрень, повечерий, под умилительное пение сладкогласных “подобнов”, под звуки древних - знаменного и греческого - распевов воспитывалось благочестие крепкое… незыблемое, вырабатывалось православное мировоззрение, воплощаемое в жизнь и действительность, а не только остающееся туманной философской теорией» .
Если переиначить известную мысль, что современный школьник знает больше Ньютона, то можно сказать, что современный семинарист знает больше древнерусского богослова. Но Ньютон все равно остается гением-первооткрывателем, и не секрет, что в XIX веке подчас из семинаристов уходили в атеисты-революционеры (как сложатся судьбы современных семинаристов, один Господь Бог весть ).
Если предъявить древнерусскому человеку требования нашего «понимания», можно с уверенностью утверждать, что он не пройдет этот тест. Тогда почему велеумные ученые восхищаются интуицией древнеславянских переводчиков? Да и у кого, кто хоть немного знает древнерусскую культуру, хватит смелости сказать, что наши предки не поняли смысла христианства? Просто это был другой путь понимания.
Надо дать себе отчет, что когда мы говорим сейчас о понятности или непонятности церковнославянского языка, мы ориентируемся «на западную концепцию знания языка и понимания текста. В этой концепции, восходящей к Ренессансу, понимание текста предполагает возможность его интерпретации (пересказа своими словами), а знание языка - активное им владение» . Забегая вперед, скажем, что ренессансным подходом к образованию объясняется и мнение иностранцев о застое образования на Руси в XVI-XVII веках. Действительно, наша современная система образования зарождается в братских школах Юго-Западной Руси XVI века, которые создавались для борьбы с униатством, но в своем устроении многое заимствовали из католической системы, так как после падения Константинополя в Греции наблюдается культурный упадок и сами греки ездят учиться в Европу.
А до этого на Руси «курс древнерусских училищ ограничивался чтением, письмом и церковным пением. Этот курс имел строго церковный характер. “Закона Божия” как особого предмета не было. Потому что все обучение составляло один Закон Божий» , оно было направлено на утверждение веры. Мысль достаточно избитая. Я смогла «понять» принципиальное отличие древнерусского образования от нашего совсем недавно. Когда в перестроечный период стали возникать при храмах воскресные школы, многие родители, даже неверующие, охотно отдавали туда своих детей, но когда поняли, что то, чему их детей учат, не просто обогащение интеллектуального багажа, расширение кругозора, а требует изменения образа жизни, некоторых детей из воскресных школ забрали. Но вернемся к Древней Руси, в которой учили в основном читать, писать, многие священные тексты заучивались наизусть.
Что касается простого народа, христианизация которого длилась несколько веков, фольклористы часто обсуждают проблему двоеверия русского народа, т. е. сосуществования в сознании и жизни христианских и языческих представлений и обрядов вплоть до нашего времени, а Н. Лесков говорил, что русский народ крещен, но не просвещен. Это не удивительно, так как монгольское нашествие затруднило распространение просвещения на Руси настолько, что даже была утрачена первоначальная традиция проповеди. У старообрядцев до сих пор вместо нее читается «Пролог», а в Москве проповедь восстанавливает патриарх Никон, и первыми проповедниками были выходцы из Юго-Западной Руси (Епифаний Славинецкий).
И все же древнерусская система образования и особенно знание многих священных текстов наизусть (современная наука вряд ли в состоянии проанализировать тайну постоянного присутствия святых слов в сознании человека), погруженность в церковную традицию (иностранцы поражались тому, как много времени русский человек проводил на церковных службах), дали свои плоды, что можно показать на примере одного лишь слова. Русское крестьянин восходит к латинскому christianus (христианин) и только с XIV века, когда закончилась христианизация русского народа, приобретает современное значение земледелец . Русский землепашец стал христианином-крестьянином и из всех сословий дольше всех сохранял религиозное сознание.
Период XIV-XVII веков
Иногда приходится слышать даже от священнослужителей, что в Церкви служат по-старославянски. Термин «старославянский» наиболее четко определен и появился в научных целях для обозначения языка древнейших памятников X-XI веков. Проникновение местных, диалектных черт в эти памятники минимально и позволяет говорить о едином для всех православных славян старославянском языке. Ситуация одноязычия, или диглоссии, именно в силу генетической родственности церковнославянского и разговорных языков приводила к тому, что постепенно даже в церковные тексты начинают проникать элементы народно-разговорной речи и образуются изводы, или редакции, церковнославянского языка - болгарский извод, сербский, русский. Различия между ними не превышали пределов, которые обеспечивали их свободное понимание грамотными людьми всех славянских народов, поэтому говорят не о разных языках, а об изводах.Современный язык Церкви очень отличается от старославянского и от языка XIII века, так как культовый язык так же, как разговорный и литературный, развивается во времени, меняется, - но по разным законам, что наиболее ярко проявилось в следующем периоде - с XIV по XVII век.
К XIV веку из живого народного языка, в силу стихийного развития, уходят звательная форма, двойственное число, сложная временная система глагола - словом, весь грамматический материал современных учебников церковнославянского языка. Развитие языка Церкви идет в прямо противоположном направлении. Начинается процесс складывания нормы церковнославянского языка с установкой на архаизацию (устаревшие грамматические формы закрепляются как норма, говорят о реставрации старославянской, или кирилло-мефодиевской, традиции) и грецизацию (новая волна заимствований из греческого языка в лексике, принимается греческая система надстрочных знаков; самое важное - побеждает техника буквального перевода, когда церковнославянский текст становится калькой, копией с греческого).
Эти процессы связаны со 2-м южнославянским влиянием и теорией «Москва - третий Рим».
2-е южнославянское влияние . В XIV веке в Болгарии патриарх Евфимий (1360-1393) начинает реформу по исправлению богослужебных книг, отступивших от первоначальных образцов. Центром этой работы был монастырь Св. Троицы близ г. Тырново. Выработанная редакция носит название тырновского извода. После захвата Тырнова турками-османами начатая реформа продолжилась в Сербии в монастыре Св. Троицы на реке Ресаве, результатом этой книжной справы является редакция богослужебных книг, которая носит название ресавского извода. Турецкое нашествие обрывает эту работу и в Сербии. У нас на Руси реформа по правилам тырновской школы начинается при митрополите Киприане (1387-1406), в ней принимают участие выходцы из Болгарии и Сербии.
Теория «Москва - третий Рим» создана старцем псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофеем. После падения Константинополя в 1453 году Москва осмысляется как новый Константинополь, или третий Рим, и возникает идея преемственности письменного наследия, включая даже графико-орфографический аспект.
Истоки этих процессов (архаизации и грецизации) исследователи находят на Афоне, где «в связи с тогдашним мистико-аскетическим движением, введением более строгого Иерусалимского церковного устава и значительными изменениями богослужебного типикона… происходил систематический пересмотр греческого новозаветного и библейского текста и литургических книг, что привело к ревизии и реформе греческого правописания на базе античной традиции» . Так как живой греческий язык в своем развитии стал сильно отличаться от литературного, влиять на него, то греческие книжники стали добиваться «очищения и восстановления целостности своего литературного языка путем возрождения аттического греческого» . И в славянских монастырях Святой горы под греческим влиянием вырабатываются принципы редакции богослужебных книг. «Продукция афонских центров представляет собой основу литературного потока, названного вторым южнославянским влиянием, и распространяется во всем регионе Slavia Orthodoxa» .
Оба эти направления - архаизация и грецизация, начатые 2-м южнославянским влиянием, веком позже поддержаны теорией «Москва - третий Рим».
Одновременно в Древней Руси развивается богословие исихазма, которое развивает символическое представление о слове. Под влиянием этих идей складывается представление о языке Священного Писания как о словесной иконе. В языке видят не условную систему знаков, а совокупность символов, обладающих реальной духовной силой. Афонский монах XVI века Иван Вишенский видит в славянском языке «встречу мира человеческого сознания с миром божественным; причем божественное внедряется в славянский язык с такой полнотой, которая неведома другим языкам, не столько человек говорит о Боге, сколько сам Бог говорит о себе на славянском языке… человек простым чтением по-славянски приводится к Богу» .
Но в результате этих процессов язык Церкви становится малопонятным, и к XVI веку складывается ситуация двуязычия. И именно в этот период впервые начинают звучать предложения перевести Библию на простой, понятный язык и под влиянием протестантских идей или самими протестантами предпринимаются попытки подобного рода. Первым опытом в этом деле была «Бивлия руска» Франциска Скорины. В 1517-1719 годах он выпустил в Праге 20 книг Ветхого Завета, затем Апостол. Язык Франциска Скорины церковнославянский, но с чешским влиянием и с большим пластом лексики из «простой мовы» - литературного языка, сложившегося в Великом Княжестве Литовском. В Московской Руси издание Франциска Скорины было запрещено. Во 2-й половине XVI века имеются протестантские переводы в Белоруссии (Евангелие около 1580 года, переведенное Василем Тяпинским) и на Украине (Евангелие 1581 года, переведенное Валентином Негалевским). Для Северо-Восточной Руси есть свидетельства о несохранившемся переводе пастора Эрнста Глюка, предпринятом в конце XVII века, возможно, по инициативе Петра I.
XVIII век
Ситуация двуязычия генетически родственных языков, какими являются церковнославянский и русский, не может быть стабильной ситуацией - точнее, при нестабильности церковнославянско-русского двуязычия есть два выхода: первый - один язык вытесняет другой и второй - путь синтеза, возврата к ситуации одноязычия. То, что поиск возврата к одноязычию происходил, филологи видят в письменном наследии таких общественно неоднозначных, но литературно, бесспорно, одаренных личностей, как Иван Грозный и протопоп Аввакум. Но этот путь - путь синтеза - был прерван на долгое время реформами Петра I. Новые формы жизни, новые литературные, светские жанры мирского содержания требовали нового языка.
На протяжении всего XVIII века русская литература находится в творческом поиске и выработке литературного языка. Этот поиск можно свести к двум основным направлениям:- ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию, когда пишут, как говорят, что сопровождалось отказом от «глубокословной славенщины», а славянский язык воспринимался как чужой, иностранный, «жесткий», т. е. грубый, неестественный;
- признание специфики языковой ситуации в России по сравнению с Францией или Германией, признание общности славянского и российского языков и поиск их синтеза.
На этом втором пути литераторам пришел на помощь М. Ломоносов, создав «теорию трех штилей», изложенную им в трактате «О пользе книг церьковных в Российском языке». Ломоносов славянскую (исключив такие устаревшие слова, как обавати , овогда и т. п.) и русскую лексику делит на четыре группы:
1) славянские слова, которые хотя и малоупотребительны, понятны всем грамотным людям (отверзать , Господень , насаждать , взывать );
2) слова, которые одинаково употребительны как в славянском, так и в русском языках (Бог , слава , ныне , почитать );
3) слова, которых нет в церковных книгах (говорить , который , пока );
4) «презренные слова, которых ни в каком штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях», т.е. просторечье.
Соединением разных групп лексики создаются три стиля литературного языка:
Высокий (образуется из слов 1-й и 2-й групп), высоким стилем пишутся героические поэмы, оды;
Средний, или посредственный (из слов 2-й и 3-й групп), средним стилем пишутся все театральные сочинения (кроме комедий), стихотворные дружеские письма, эклоги, элегии;
Низкий стиль (из русских слов 3-й и 4-й групп), низким стилем пишутся комедии, увеселительные эпиграммы, песни, дружеские письма в прозе, описания обыкновенных дел.
Уязвимым местом этой теории является связь языковых стилей с литературными жанрами в духе эстетики классицизма. Русская литература пошла по пути, намеченному Ломоносовым, освобождаясь от классицистской ограниченности.
XIX - начало XX века
Дискуссии о путях развития русского литературного языка продолжались до начала XIX века. Их завершением можно считать литературную борьбу между новаторами во главе с Н. М. Карамзиным, которые ориентировались на западноевропейскую ситуацию, и архаистами во главе с Н. С. Шишковым. Фигура Шишкова долгое время находилась в незаслуженном забвении, о нем многие знали лишь по известной эпиграмме А. С. Пушкина:Угрюмых тройка есть певцов -
Шихматов, Шаховской, Шишков…
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!
Выступая в защиту церковнославянского языка, Шишков высказывает поразительные по интуиции мысли тогда, когда учеными еще не были разработаны многие филологические понятия (тех, кого глубоко заинтересует эта тема, отсылаю к книге А. М. Камчатнова). Наиболее важным для данной темы представляется такое высказывание Шишкова: «Когда поют: се женихъ грядетъ въ полунощи, я вижу Христа; но когда тожъ самое скажутъ: вонъ женихъ идетъ въ полночь , то я отнюдь не вижу тутъ Христа, а просто какова нибудь жениха. Склько смешно въ простыхъ разговорахъ говорить высокимъ славенскимъ слогомъ, столько же странно и дико употреблять простой язвкъ въ священном писании» . Здесь выражено понимание церковнославянского как языковой иконы.
Литературные споры находят свое завершение в творчестве Пушкина, которого по праву считают родоначальником современного литературного языка. Пушкин начал как карамзинист, но в процессе творческого взросления изменил свои взгляды, пришел, как и Шишков, к осознанию славяно-русского единства, выработал принципы синтеза славянских и русских элементов в пределах одного текста, которые остаются верными и в наши дни. Славянизмы имеют в произведениях Пушкина следующие стилистические функции:
Средство воспроизведения культуры, мировоззрения и быта исторически отдаленных эпох русской жизни («Борис Годунов», «Полтава»);
Источник средств гражданской риторики и лирической патетики;
Источник религиозной лирики («Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны…»);
Средства высокого эпического стиля и литературной стилизации народной поэзии («Песнь о вещем Олеге», «Песни западных славян»);
Источник отвлеченной лексики и фразеологии в научных и публицистических трудах.
Итогом литературных поисков, справедливости ради необходимо подчеркнуть здесь заслугу обоих направлений, явилось создание такого уровня развития русского литературного языка, что стали возможны конгениальные переводы на него всех достижений мировой литературы. Достаточно упомянуть перевод «Илиады» Гомера Н. Гнедичем. В недрах Российских Духовных Академий окрепла переводческая школа, и именно в XIX веке мы имеем полные собрания сочинений святых отцов, так как сформировался и богословский язык. Когда преп. Паисий Величковский делал в XVIII веке свой перевод Добротолюбия, он мог перевести только на церковнославянский. Книга выдержала на протяжении XIX века несколько изданий, что говорит о том, что русские люди не утратили способности понимать по-церковнославянски. Свт. Феофан Затворник в 1877 году опубликовал свой перевод Добротолюбия, и язык этого перевода - русский богословский язык, вобравший в себя славянский.
Русская культура преодолела пропасть между славянским и русским языком, произошел возврат к ситуации одноязычия, главной отличительной чертой которой является возможность соединения двух языков в пределах одного текста. Может быть, именно этим объясняется взрыв акафистного творчества в XIX веке. Немая верующая душа обрела способность выразить себя. Известно, что акафисты писали люди всех сословий. Были созданы специальные комиссии, которые рассматривали написанные тексты и или разрешали их для печатания, или отвергали. Одна из причин, по которой акафист мог быть не допущен к печати, - слишком большая русификация языка. Но это и доказывает, что в сознании человека XIX века два этих языка вновь соединились в один.
Особенность отличия одноязычия XIX века от одноязычия первого периода X-XIII веков в том, что стала возможна молитва на русском языке. Дело в том, что церковнославянский язык - языковая икона - область чистого духа и в нем всегда ощущалось отсутствие душевности, психологизма в современном понимании. Русский язык, слившись с церковнославянским, становится теперь способным передавать и молитвенные переживания. Он становится средством выражения молитвы частной, келейной. За церковнославянским закрепляется функция быть голосом Церкви в официальном богослужении.
Сторонники сохранения славянского богослужения иногда ссылаются на то, что церковнославянский богаче русского. Это не верно. Богаче русский язык, он имеет средства описания всех сторон человеческой жизни, начиная с низшей (это может быть даже лексика, находящаяся за пределами литературного языка, так называемая бранная и даже матерная) и заканчивая высшей (религиозная поэзия). Пытаясь описать богатство русского языка XIX-XX века, филологи создают учение о функциональных стилях. «Функциональный стиль - разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены особенностями общения в данной сфере» . В переводе на нелингвистический язык это значит, что в зависимости от того, с кем ведется общение и по какой теме, человек выбирает те или иные языковые средства. Когда в XX веке разрабатывалось это учение, язык Церкви не мог быть рассмотрен с этой точки зрения. Несмотря на то что современное сознание утратило принцип иерархичности, выделение функциональных стилей русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, обиходно-бытовой - несет на себе этот отпечаток. Пора поставить вопрос о том, чтобы язык Церкви - церковный стиль - был включен в эту систему и поставлен выше научного.
Здесь могут последовать возражения филологов, которые будут настаивать на том, что русский и славянский - два разных языка. Бывают ситуации, когда «члену языкового коллектива свойственно воспринимать сосуществующие языковые системы как один язык, тогда как для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка» , т. е. то, что трудно принять ученому филологу, легко преодолеет сознание верующего человека. Поэтому, разбирая тексты молитв Иоанна Кронштадтского, Плетнева А. А. пишет: «Тексты молитв <...>, не предназначенные для богослужебного употребления, достаточно гармоничны в языковом отношении. Элементы двух языков прекрасно сочетаются. Создается впечатление, что для составителя текстов русский и церковнославянский являются единым языком, то есть церковнославянский является богослужебным стилем русского литературного языка» .
Все это звучит оптимистично. Но проблема непонимания славянского языка богослужения и Священного Писания в XIX веке вновь возникает, и более остро. Важно понять, что это уже не чисто языковая проблема, а проблема разъединенности двух культур - светской и церковной. Как известно, сам Александр I читал Библию на французском языке. Но не будем забывать, что Российское библейское общество, деятельность которого развернулась в годы правления этого императора, ставило своей задачей не только дать переводы Священного Писания на русский язык и на многочисленные языки малых народов, населявших Российскую империю, но также издавать дешевые славянские Библии - и эти дешевые издания расходились, были востребованы. Налицо разрыв между культурой аристократической, образованной элиты и народом.
РБО, открытое в 1813 году как филиал Великобританского библейского общества, было закрыто в 1826 году, так как его активными деятелями являлись люди неправославного вероисповедания; оно, помимо переводческой деятельности, вело активную работу по распространению мистических книг и масонских идей. Заслуга возобновления работы над переводом Библии на русский язык в 50-е годы XIX века принадлежит святителю Московскому Филарету (Дроздову). На этот раз были привлечены ученые и богословы четырех Российских Духовных Академий, в недрах которых сформировалась серьезная русская богословская и переводческая школа. Страшно представить, что было бы сейчас с нами, людьми XX-XXI вв., если бы этого перевода не было. А тогда, в середине XIX века, были серьезные противники этого дела и стоит вдуматься в возражения, которые представил на имя обер-прокурора Святейшего Синода митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров): «…русский перевод будет вытеснять славянский язык, и без того недовольно знакомый образованным из наших соотчичей, для которых таким образом может сделаться наконец непонятным и само богослужение церковнославянское…»; «чтобы существовало народное требование именно русского перевода Священного Писания, это не только не доказано, но и несправедливо… Не доказывает народного требования на русский перевод и то, если к нам вторгаются иностранцы со своим изданием Библии на русском языке… впрочем, с распространением русского перевода таковое вторжение не только не прекратится, но, вероятно, сделается еще сильнее» . Эти мысли звучат поистине пророчески.
Но работа над переводом Библии началась. В 1860 году было издано русское евангелие (в версии 1818 года), в 1876 году в одном томе полная русская Библия, так называемая Синодальная. Стоит упомянуть, что язык перевода уже в то время воспринимался как устаревший, и это было началом русского православного ответа на католический и протестантский подходы к решению проблемы.
Следующими на очереди, как и предсказывал Киевский митрополит Филарет, оказались богослужебные тексты. Сразу стоит отметить новое по сравнению с подходами к редактированию текста при патриархе Никоне: «если прежде основной задачей книжной справы было сделать текст более “правильным” - в богословском, источниковедческом или языковом плане, то теперь к этим требованиям добавляется еще одно - понятность. Славянский текст должен стать понятным для носителя русского языка» .Сохранились публикации в периодической печати переводов богослужебных канонов В. П. Нечаева, И. Д. Колоколова, Е.И Ловягина. Известно крайне сдержанное отношение митрополита Московского Филарета к этим трудам, несмотря на то что он сам перевел на русский язык акафист Пресвятой Богородице. В 1881 году Св. Синод создает специальную комиссию, но архивные материалы, результаты работы этой комиссии, пока не обнаружены.
Остановимся более подробно на работе над редакцией богословских текстов епископа Екатеринославского Августина (Гуляницкого), так как им разработана лингвистическая программа исправления богослужебных книг, в основных своих чертах остающаяся неизменной для всех сторонников поновления церковнославянского языка. Он открыто заявляет: «Нам в высшей степени желательно, чтобы язык этот (церковнославянский) постепенно упрощался и приближался к нашей живой речи» . Епископ Августин предлагал исключить двойственное число, а также отказаться от языковых элементов, заимствованных из греческого языка: синтаксические кальки «дательный самостоятельный», «инфинитивные конструкции», местоимение «иже» на месте греческого артикля; отказаться от греческого словорасположения, заменить устаревшие «непонятные» слова, ввести современную пунктуацию.
Итогом работы XIX века в решении проблемы непонятности церковнославянского языка явилась выработка трех направлений:
К началу XX века вопрос об исправлении богослужебных книг становится настолько актуальным, что в периодической печати начинается открытое его обсуждение, и проблему непонятности славянского языка можно считать ключевой. Исчерпывающая подборка этих материалов дана в книге прот. Н. Балашова . В 1907 году была организована Комиссия по исправлению богослужебных книг под председательством архиепископа Сергия (Страгородского) . Были подготовлены к печати и вышли в 1912 году Постная Триодь, а в 1913-м - Цветная. Хотя теоретические подходы к редактированию оставались те же, что и у епископа Августина (Гуляницкого), исправления не носили столь ярко выраженный характер русификации языка. Обращает на себя внимание решение Синода печатать книги новой редакции без отметок на заглавных листах о произведенных исправлениях и выпускать книги в продажу не прежде, как по распродаже всех экземпляров старого издания, т. е. желание провести замену текста незамеченной, что, учитывая хорошее знание русским человеком того времени богослужения, представляется абсолютно непонятным. Результатом явились волнения на местах, например в Валаамском монастыре. Вчитываясь в дискуссию о богослужебном языке в начале XX века и вдумываясь в столь нелогичное решение Синода, погружаешься в ту особенную атмосферу болезненно возбужденного сознания, которое в период между двумя революциями охватило все русское общество, и клирики не явились исключением. Что же касается решения Поместного Собора 1917-1918 годов о богослужебном языке, то исследователи не могут прийти к однозначному мнению, каким оно было, что, учитывая политическую обстановку, в которой протекал Собор, тоже не удивительно.
В советский период в силу исторических обстоятельств Церковь не могла ни серьезно продолжить начатую работу, ни выработать принципиально новых подходов. Над текстом богослужебных книг работал еп. Афанасий (Сахаров), считая свою работу подготовительным этапом к будущей книжной справе. Пожалуй, единственно новым явилась традиция печатания церковнославянских текстов гражданским шрифтом, введенным Петром I, что делает славянские тексты по-настоящему непонятными, так как система специальных обозначений для расподобления совпадающих грамматических форм разработана в XVII веке именно с целью лучшего понимания текста.
Наши дни
Наконец в конце XX века началось возрождение церковной жизни. И перед нами встали старые проблемы, а славянский язык оказался непонятным для людей, даже вступивших в ограду Церкви. Но XIX век уже дал ответы, как решить эту проблему: 1) катехизация; 2) переводы, сопровождаемые научными исследованиями; 3) новая славянская редакция. Необходимо, чтобы эти решения были осмыслены с учетом специфики своего времени.
КАТЕХИЗАЦИЯ. Если в XIX веке речь шла об углубленной катехизации, то сейчас можно говорить о новом крещении русского народа. Но, может быть, более важным на данном этапе будет проповедь не столько словом, сколько делом. И Церковь, получив возможность выработать «Основы социальной концепции» , уже начала работать в этом направлении. Достучаться до окаменевшего или исстрадавшегося сердца современного человека можно, только если показать пример деятельной любви, возможность жизни по другим, Божеским законам.
Путь снисхождения к человеческой слабости и миссионерские литургии на русском языке имеют свою опасность. То, что когда-то почувствовал Шишков, говоря: «Когда поют: се жених грядетъ въ полунощи , я вижу Христа; но когда тожъ самое скажутъ: вонъ женихъ идет в полночь , то я отнюдь не вижу тутъ Христа, просто какова нибудь жениха», - лингвисты определяют как коннотацию. «Коннотация (от лат. connoto - имею дополнительное значение ) - эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе языка) или окказионального характера… Субъективность коннотации проявляется в возможности противоположной интерпретации реальности, названной одним и тем же словом» . Каким может оказаться понимание службы у человека, только что переступившего порог Церкви, даже страшно себе представить.
В начале XX века уже поднимался вопрос о пересмотре Типикона, о разумном сокращении богослужения и введении практики более пространной монастырской службы и сокращенной приходской. Протопресвитер Г. Шавельский предлагал во время войны 1914-1917 годов ввести сокращенное богослужение для армии и флота. Этот путь представляется более безопасным.
Очень тревожным и часто звучащим доводом к переводу богослужения на русский язык была мысль, что народ, не понимающий церковнославянского, уходит в секты. Здесь уместно будет вспомнить предупреждение Киевского митрополита Филарета, что именно русский текст Библии будет способствовать распространению сект. Чтобы убедиться, что он оказался прав, достаточно вспомнить случаи в жизни каждого человека, когда к нему подходили адепты современных протестантских учений и предлагали пойти к ним на собрания почитать Библию. К такому ли «пониманию» надо стремиться?
ПЕРЕВОДЫ. Здесь стоит вспомнить дело о переводе Ветхого Завета Г. П. Павского. Протоиерей Г. П. Павский, с 1818 года профессор еврейского языка в Санкт-Петербургской Духовной Академии, занимался на своих занятиях со студентами переводом на русский язык некоторых ветхозаветных книг. Списки перевода передавались с курса на курс, и уже после ухода Павского из Академии по просьбе студентов эти списки были собраны, сверены и лучшие отлитографированы в 1838-1839 годах в количестве 150 экземпляров. В 1841 году выпущено 300 экземпляров новой редакции. Литографирование предпринято с целью облегчить понимание священных книг Ветхого Завета при домашнем чтении и при переводе на занятиях по древнееврейскому языку. Оттиски вышли за рамки Академии и стали распространяться в среде духовных лиц. В 1841 году член Св. Синода Киевский митрополит Филарет получает письмо, в котором автор, не указавший своего имени, сообщает о существовании литографированного неправильного перевода и обвиняет эти издания в том, что они «превращают истину Божию во лжу, вечную премудрость в буйство человеческое» . Создается Комиссия, учрежденная для истребования объяснений от протоиерея Г. П. Павского. Как протекала работа этой комиссии и какие ответы давал заслуженный профессор, подробно изложено в книге Чистовича. Отлитографированные экземпляры подлежали изъятию, а сам Павский был признан «неподлежащим ответственности в деле распространения этих переводов».
Какие уроки можно извлечь из этой печальной истории? Это дело инициировало начало углубленного осмысления двух редакций Ветхого Завета. В настоящее время греческая редакция Септуагинты признана наиболее важной для церковного вероучения и богослужения, за еврейской масоретской редакцией признается ценность в научных богословских изысканиях.Перевод Павского представляет собой первый опыт историко-филологической работы с текстом Библии, так как, по его собственному признанию, он отдельные главы и стихи иногда располагал по хронологическому порядку и по однородности содержания в целях лучшего усвоения. Если быть уверенным, что Церковь сохранит славянскую Библию, восходящую к Септуагинте, и славянский язык в богослужении, можно не бояться и с легким сердцем приветствовать различные виды переводческой серьезной работы с текстом Священного Писания. Тогда допустимы и филологические переводы, и даже художественные некоторых поэтических ветхозаветных книг, таких, например, как Песнь Песней и Псалтырь. Но приоритетным направлением должен оставаться такой вид переводческой деятельности, который представлен в уже упоминавшихся работах М. Скабаллановича.
Для того чтобы сделать богослужение понятным современному человеку, уже получает распространение практика, заимствованная из традиции греческой Церкви, когда на приходах желающим предлагается заранее подготовленный русский перевод изменяемой части служб на следующую седмицу для ознакомления. Если перед тем, как пойти в театр на очередную постановку произведений классической литературы, бывает полезно не в первый раз перечитать авторский текст, то богослужение достойно этой предварительной работы в значительно большей степени.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА. Представляется, что необходимо выработать новые принципы редактирования текста и, как это ни странно прозвучит, отказаться от попыток сделать текст «понятным» в результате упрощения и русификации. Хотя бы уже просто потому, что на вопрос: «Текст должен быть понятен кому?» - ответа нет, а самый честный, который дал мне один из студентов: «Конечно, мне». Это тупик. И редакция владыки Сергия (Страгородского) стала уже непонятна для современного человека.
На особенности современного отношения к тексту обращает внимание французский писатель Д. Пеннак, долгие годы проработавший учителем литературы и стремившийся развить в своих учениках любовь к книге через любовь к звучащему слову. Вот отрывки из его книги «Как роман» .
Я спрашиваю ее:
- Тебе читали вслух, когда ты была маленькая?
Она отвечает:
- Нет , никогда. Отец был то и дело в разъездах, а мать слишком занята.
Я спрашиваю:
- Откуда тогда у тебя такая страсть читать вслух?
Она отвечает:
- От школы.
Обрадовавшись, что хоть кто-то признает за школой хоть какую-то заслугу, я весело восклицаю:
- Ага , вот видишь!
Она говорит:
- Да нет. В школе нам запрещали читать вслух. Только про себя - уже тогда была такая концепция. От глаз прямо в мозг. Непосредственная передача информации. Быстро и действенно. И через каждые десять строк - тест на понимание. Культ анализа и комментария с первого дня! У большинства ребят от страха ум за разум заходил, а это еще было только начало! У меня-то ответы всегда были правильные, если хочешь знать, но потом, дома, я все перечитывала вслух.
- Зачем ?
- Для волшебства. Слова, которые я произносила, начинали существовать отдельно от меня, они взаправду жили. И потом, мне казалось, это акт любви. У меня всегда было чувство, что любовь к книге приходит через просто любовь. Я укладывала кукол в кровать на мое место и читала им вслух. Случалось, так и засыпала на коврике у их ног.
Не знаю, была ли в нашей педагогике сознательная установка «текст - информация», но это направление, безусловно, победило и у нас. Культура звучащего слова сдает свои позиции, а до XVII века текст молитвы обязательно произносился вслух. Человек, переступающий порог церкви, чтобы получить информацию, будет разочарован. Верующий из года в год присутствует на службе и слышит одни и те же слова не для того, чтобы узнать что-то новое, а для того чтобы пережить уже известное ему. Это не горизонтальное расширение знаний, а вертикальное углубление, вживание, и очень медленное, в непостижимую тайну боговоплощения.
В текстах богослужения нет ни одной новой мысли, которой не содержалось бы в курсе Катехизиса. Ирмос канона Утрени Великой Субботы «Волною морскою» заслуженно часто приводится как пример одного из самых трудно понимаемых текстов. Однажды я провела эксперимент. Так как ирмосы опираются на содержание Ветхозаветных песен, я в течение года дала задание студентам Сретенской семинарии самостоятельно их проработать, а на экзамене раздала тексты песен канона в соответствии с проработанными Ветхозаветными песнями, и первую - самому сильному студенту. Через какое-то время в его глазах увидела страх - экзамен, а текст не понятен. Было достаточно напомнить: вы же прорабатывали первую песнь Моисея - и ирмос прояснился. С другой стороны, русский перевод «Дети спасенных Тем, кто некогда скрыл в морской пучине преследовавшего (их отцов) мучителя-гонителя, погребли под землей Его Самого. И мы, как отроковицы, давайте воздадим хвалу Господу, ибо Он торжественно прославился» - вряд ли будет понятен человеку, который не знает новозаветного содержания Великой субботы, не понимает связи Ветхого и Нового заветов. А образ отроковиц? Кто они? В Библии вслед за песней, воспетой Моисеем (Исх 15: 1-19), говорится о песне пророчицы Мариам, сестры Аарона, которую она вместе с женщинами воспела, прославляя спасшего их Бога, но самих слов песни Мариам в Библии нет. Исследователи считают песнь Мариам первичной, а песнь Моисея позднейшей разработкой. Таким образом, русский перевод нуждается в знании текста Библии и пояснениях не в меньшей степени, чем славянский.
Сторонники перевода богослужения на русский язык любят приводить рассказ митрополита Антония Сурожского о женщине, которая каждый раз заливалась покаянными слезами на словах «Да исправится молитва моя», потому что слышала вместо «яко кадило пред Тобою» - «я крокодила». И вот подобная ситуация приводится в рассказе В. А. Никифорова- Волгина «Серебряная метель» . Мальчик в сочельник «умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче и громче: «Дева днесь Пресущественнаго раждает» - и вместо «волсви же со звездою путешествую» пропел «волки со звездою путешествуют».Отец, прослушав его пение, сказал:
Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?
А заканчивается рассказ сном мальчика после Рождественской службы: «В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде; все они пели:
Рождество Твое, Христе Боже наш…»
Это уже не смех (которого, кстати, не было у митрополита Антония), а поэзия и библейское понимание происходящего, как в песне трех благочестивых отроков, воспевших в печи Богу: «Благословите Господа, звери и весь скот, и пойте и превозносите Его во веки» (Дан 3:81). И не об этом ли говорил Христос в наставлении о смирении, призывая быть как дети: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах видят лице Отца Моего небесного» (Мф 18:10). И как тут не вспомнить творчество А. П. Чехова, самого интеллигентного писателя русской литературы, ведь в его рассказах живой верой обладают только необразованные люди из простонародья и дети.
Неправильно услышанные славянские тексты никак не могут быть доводом к переводу богослужения на русский язык просто потому, что воспринимаемый на слух русский текст так же даст свои случаи искажения.
Но проблема серьезного непонимания богослужебных текстов существует. Признаюсь, я сама порой доходила до отчаяния, пытаясь осмыслить тот или иной ирмос, тропарь. Причина в том, что церковная гимнография - это поэтические тексты, образные. По меткому выражению А. Десницкого, интеллигент «привык пропускать все через мозги, а… крестьянин - через руки и сердце» . Поскольку сторонниками перевода на русский язык являются по преимуществу интеллигенты, пусть о сущности и восприятии поэзии скажет поэт. В стихотворении «Перед тем как умереть…» из цикла «Розы» Георгий Иванов пишет:
И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова
И не значат ничего.
И еще пронзительнее в стихотворении из того же цикла:
В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца - самом дне -
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.
Сказано это о земной поэзии, только стремящейся в область духа. И если для «понимания» стихов Пушкина и Лермонтова, прозы Достоевского и Толстого написаны тома комментариев, то для «понимания» церковной поэзии требуются еще большие усилия.
На церковном языке о том, что для восприятия службы недостаточно одного ума, говорит свт. Филарет Московский: «При священных воспоминаниях Церковь желает занять Божественным предметом все чувства..: чрез чтение и пение занимает слух, то же чрез обряды занимает зрение, дабы ничто не рассеивало чувств и рассеяние их не препятствовало бы созерцанию духа» . Вот этим выходом к созерцанию духа можно объяснить бытующую до сих пор в греческой Церкви традицию древних «тереримов», когда в конце службы от полноты очищенного сердца певцы продолжают славить Бога в пении без слов. Поют сердце и голос, а слова - «те-ре-ри». Вспомните стихотворение М. Ю. Лермонтова «Ангел»:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел…
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
Можно возразить, что до духовного созерцания возвышаются немногие и это очень не простой путь, на нем подстерегает опасность «улететь» в какую-нибудь секту пневматиков, где искаженные формы древней глоссолалии до сих пор бытуют. Что же остается простому большинству? Здесь мне вспоминается рассказ моего знакомого А. А., который после Великой Отечественной войны часто на большие праздники летал из Москвы в Среднюю Азию, где на небольшом приходе служил выпущенный из лагеря иеромонах о. С. Вокруг него образовалась небольшая община, которая жила почти монастырской жизнью. И после дневных трудов многозаботливой Марфы эти женщины собирались вечером в келье своего духовного отца, чтобы разделить с ним его монашеское правило. Стоя на коленях, многие просто засыпали, но всегда обижались, если их жалели и не будили для прочтения того или иного акафиста, канона. Наблюдая это моление во сне, А. А., московский интеллигент, однажды не выдержал и спросил: «Кому нужна эта молитва во сне?» О. С. серьезно посмотрел на него и ответил: «Это не молитва. Молитва у святых. А у нас молитвенный труд». И все мы приходим в церковь, чтобы принести, каждый по силам, свой молитвенный труд. И какое же тут понимание, будь то славянский или русский текст, если плохо слышно, гудят ноги, засыпаешь от усталости или не можешь прервать кружения мыслей о своих жизненных заботах? Честно скажу, вслушиваясь в осознанные за долгие годы работы с церковнославянским языком слова Херувимской песни, отдавая себе отчет в этом призыве хотя бы вот сейчас отложить «житейское попечение», мне ни разу не удалось выслушать это важное для литургии место без рассеяния.
Все сказанное не означает, что церковную поэзию не надо изучать и стараться понять. Просто XX век оборвал начатые в XIX изыскания в этом направлении. Нашим ученым еще только предстоит освоить сделанное в этой области западной мыслью и сказать свое слово. Поэтому достойно сожаления, что А. Десницкий в очень интересной книге «Поэтика библейского параллелизма», касаясь поэтических особенностей Акафиста Божией Матери, приводит свой перевод и пишет: «К сожалению, русский перевод лишь в малой мере передает то буйство созвучий и ритмических повторов, которые мы видим в оригинале» - и даже не пытается привлечь славянский текст, в котором «буйство созвучий и ритмических повторов» присутствует в значительно большей степени. Один только пример. Славянское «Радуйся Невеста Неневестная» просто в силу того, что это точная калька с греческого, как образ, намного сильнее существующих попыток перевести это выражение на русский язык: «Радуйся, безбрачная Невеста!» (А. Десницкий), «Радуйся, Невеста, в брак не вступившая» (Н. Нахимов). Попытка сделать образ понятным через перевод своей цели не достигает, а сила образа умаляется и ритм сбивается.
Пожелания, чтобы русские переводы были сделаны поэтами или людьми с поэтическими дарованиями, сетования, что славянский перевод отучил нас от употребления стихов при богослужении, встречаются при обсуждении богослужебного языка на Поместном Соборе 1917-1918 годов, можно их услышать и сейчас. Но сейчас наука уже осознает, что современная светская поэзия и церковная гимнография - это разные системы. Для изучения церковной предстоит еще очень много сделать, а к изучению славянского текста с этой точки зрения просто не приступали. Можно лишь сказать, что наш богослужебный текст, представляющий точную кальку с греческого (в силу чего он часто непонятен), ближе по ритмическим особенностям к оригиналу, чем «понятный» русский перевод, поэтому и нельзя снимать инверсию (неправильный порядок слов) и выстраивать прямой в угоду прямолинейному «пониманию».Новая редакция славянского текста, безусловно, нужна. Но хочется пожелать, чтобы она была проведена без той поспешности, с какой проходила книжная справа при Патриархе Никоне. При нем были специально привезены в Москву греческие рукописи, но известно, что ими не пользовались при редактировании текста. Да и редакция архиепископа Сергия (Страгородского), проходившая в нездоровой общественной обстановке России того времени, тоже отличается спешкой. Новая редакция должна учесть достижения современной филологической и богословской науки, должна быть проведена подготовительная работа, а главное - выработан новый подход: серьезно решен вопрос соотношения греческого и славянского текстов, на какие греческие тексты стоит опираться. Но еще важнее - новое сознание: как в иконописи, где есть тайна канонического мышления - свобода, многообразие, изменчивость в рамках жесткого канона. Рано приступать к новой редакции, пока не создан словарь синонимов церковнославянского языка. Работа над публикацией «Словаря греко-славянских и славяно-греческих соответствий», написанного прот. А. Невоструевым в XIX веке, уже начата в ПСТГУ, этот словарь может помочь выполнить работу по редактированию на принципиально новом уровне.
Многих смущает, что первоначальные греческие евангелия написаны на койне, т. е. разговорном, общепонятном языке. У древних евреев Имя Бога произносилось один раз в год первосвященником во Святая Святых. По мнению В. Иванова, у многих древних народов было представление о «языке смертных» и «языке богов» . Это выражение религиозного благоговения. Христианский Бог, став человеком, заговорил на языке смертных.
Зачем же в Греции бережно сохраняют и изучают в школах ставший непонятным древнегреческий язык богослужения, зачем нам нужно сохранить «непонятный» славянский язык? А самое важное - зачем афонские исихасты XIV века, и греческие и славянские, начали процесс отделения православных богослужебных языков от мирских? «Вполне правомерно говорить… о Православном Возрождении, духовным центром которого был исихазм. Более того, если в Византии культурный расцвет совпал с политическим закатом, то в России соединилось возрождение культурное и государственное. Все это позволяет говорить, наряду с Православным Возрождением, о феномене Русского Возрождения. Религиозная основа Русского Возрождения очевидна, и в этом его главное отличие от Возрождения западноевропейского» .
В современную эпоху мы живем в смешении в своем сознании восточно-православных понятий и обмирщенных западноевропейских. Уже говорилось, что лат. christianus (христианин) в XIV веке превратилось в русское крестьянин . Но в XIX веке это латинское слово вторично приходит в русский язык из западноевропейских в форме кретин со значением «физически и умственно недоразвитый человек». Сохранение архаичности («непонятности») богослужебного языка, а это обратная перспектива языковой иконы, даст современному человеку возможность выстроить свое религиозное мировоззрение по иерархическому принципу «Бог - и я», а не по молодежно-протестантскому «Я - и мой друг Христос». Решать, по какому пути идти, будет сердце. Хочется надеяться, что оно подскажет правильный путь, и тогда, возможно, сбудется пророчество А. С. Пушкина.
Пушкин пишет «Медного Всадника» как ответ на поэму А. Мицкевича «Поминки» («Dziady»), в которой польский поэт дал резко отрицательную оценку деятельности Петра I. В своей поэме Пушкин прославляет деяния русского императора, но чутким сердцем творца предчувствует грядущую расплату. Описание наводнения
Осада! Приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна…
позволяет говорить, что за образом разбушевавшейся стихии скрывается тема народного восстания. Более древнее значение слова вор - «враг, неприятель (об участниках феодальных междоусобных и религиозных столкновений, восстаний и войн), смутьян, преступник» , ср.: вор Стенька Разин. Есть в поэме поистине таинственное место:
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело - воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь
, как тритон,
По пояс в воду погружен.
Пушкин не просто автор стихотворения «Пророк», русская литература продолжает в новых формах харизматический дар пророчества, и, может быть, здесь скрыто предчувствие того, что русский народ, укрепленный в православной вере, возродится и сможет противостоять волнам апостасийности нашего времени.
Вклад, сделанный Солунской двоицей в культуру русского мира на самом раннем этапе его становления, трудно переоценить. Как известно, основной заслугой Константина-Кирилла и его брата Мефодия стало изобретение азбуки для одного из диалектов староболгарского языка, носители которого составляли компактную диаспору, проживавшую в Фессалониках во времена жизни будущих просветителей. Именно этому диалекту суждено было лечь в основу будущей славянской письменности, и со временем, претерпевая изменения, обусловленные активным взаимодействием с восточнославянским лингвистическим субстратом, образовать удивительно разнообразную, необыкновенно богатую, сумевшую впитать в себя и выразить в себе все неповторимые, самобытные особенности национального менталитета русскую литературу.
Точным барометром, дающим прямой ответ на вопрос о роли церковнославянского языка в современной литургической жизни Церкви, является реакция любого воцерковленного христианина на инициативу упрощения богослужебных текстов, их перевода на современный язык: реакция, как правило, резко негативная. Не стоит забывать, что во многом языковая реформа легла в основание самого большого и болезненного в истории Русской Церкви раскола - раскола между староверами и никонианами. Резкие выпады протопопа Аввакума против таких прав литургического текста, как «приидите пием пиво новое» (в Пасхальном каноне, вместо «приидите пием питие новое»), могут оказаться созвучными и современным прихожанам православных храмов. Не следует забывать и о том, что обвинительный вердикт преподобному Максиму Греку был вынесен на основании установки факта его лингвистической некомпетентности и даже то смягчающее обстоятельство, что преподобный был нерусским человеком, человеком иной культурной формации, не послужило смягчающим обстоятельством в рассмотрении такого страшного согласно пониманию современников преступления, как искажение чистоты церковнославянского слога. Итак, язык, образ выражения мыслей во время молитвы есть форма, которая неотъемлемо связана с содержанием. Язык обладает самодостаточной значимостью и конденсирует духовный опыт всего народа, на всем протяжении его исторического бытия.
Церковнославянский язык - это тот язык, молитвы которого произносил сонм русских святых: преподобный Антоний и Феодосий Печерские, преподобный Сергий, Серафим. Отказ от него есть самопредательство, акт духовно-исторического суицида.
Конечно, же изначально церковнославянский язык создавался как язык сакральный, предназначенный для передачи сакральных смыслов, язык избранных и посвященных. Первые слова, написанные новой азбукой святым Кириллом, были по преданию, слова первого зачала Евангелия от Иоанна: «Искони бе слово, и слово бе к Богу, слово бе Бог». Высокое звучание, возвышенный слог дистанцировал происходящее внутри храма от всего прочего, от профанного пространства за пределами его стен. Ясен и тот факт, что церковнославянский язык, в том виде, в котором его запечатлели первые памятники письменности, да и редакции позднейшего времени никогда не был разговорным языком для восточнославянских племен, проживавших на территории Руси в первые века становления государственности. Конечно, староболгарский язык во всем его диалектном разнообразии и древнерусский язык как совокупность восточнославянских говоров, впоследствии разделившихся на украинский, белорусский и русский языки, некогда восходили к единому общеславянскому праязыку, однако к 9-ому веку разные ветви этого общеславянского языка разошлись в своем развитии куда далее, нежели различные говоры одного и того же языка. Лингвисты до сих пор решают тот факт, какие из грамматических категорий церковнославянского языка существовали в разговорном древнерусском языке. Так, формы перфекта («отверзл еси разбойнику рай»), несомненно, были свойственны речи новгородцев и киевлян в 11, 13, 14-м веках, тогда как формы плюсквамперфекта («идеже бе лежало тело Иисусово»), по всей видимости, с самого начала были чужды речи жителей Древней Руси.
Итак, церковнославянский язык с самого начала был формой некоторого вида культурного, интеллектуального ценза. Проникновение в сакральное литургическое пространство требовало и продолжает требовать от человека определенных интеллектуальных, лингвистических усилий, без которых происходящее в стенах храма остается зачастую своего рода театральным представлением, построенным по законам неизвестного непосвященному жанра. Подобному тому как православная духовность отказывается от устроения сидячих мест внутри храма и таким образом уходит от санкционирования компромисса в бытовой аскезе, отказ от церковнославянского языка осмысляется духовной традицией как неприемлемая нравственная капитуляция.
Однако было бы неправомерно ограничить роль церковнославянского языка сферой внутрицерковного употребления: на деле церковнославянский язык вошел в структуру русского языка на всех его уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом и других. Дело в том, что современный русский литературный язык есть данность, образовавшаяся в процессе многовекового синтеза письменного церковнославянского языка и разговорного комплекса восточнославянских говоров. При этом соотношение лингвистического наследия церковнославянского языка и разговорного языка восточных славян в современном русском языке разные историки русского языка оценивают, как 1:2, 1:3, 1:4. Это значит, что львиная доля современного русского языка воспроизводит языковые структуры разного порядка, впервые введенными в широкое пользование Кириллом и Мефодием в процессе письменного закрепления богослужебных текстов православной Церкви.
Церковнославянский язык составляет, несомненно, основу стилистического разнообразия современного русского языка, являя своими структурами такие полярные проявления в стилистической линейке, как высокий, возвышенный, величавый стиль, свойственный, например, державинским одам, с одной стороны («Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли, приди, суди, карай лукавых и будь Един царем земли»), и сниженный пародийный стиль щедринской «Истории одного города» - с другой («Елизавета Возгрявая», «гунявый градоначальник» и т. п). Именно это стилистическое разнообразие создает тот инструмент, с помощью которого русская литература смогла добиться того многообразия смыслов, которое позволяет осмыслить один и тот же факт сквозь призму совершенно различных интерпретаций, которое исключает фанатичную ограниченность в стоянии на своей единственно возможной правде, которое даровало свою долю читательских симпатий такому, казалось бы, ничтожному персонажу, каким представлен в последнем романе Ф. М. Достоевского четвертый из братьев Карамазовых - Смердяков. Впрочем, следует отметить, что подобного рода относительность применяется к оценке персонажей, людей, но не качеств характера, жизненных установок, осмысляемых вообще.
Народ - это и есть язык. Недаром в церковнославянском языке эти два слова совпадали друг с другом. Недаром именно языковые отличия признаются единственным и важнейшим критерием для классификации народностей. Понять, что воплощает в себе мифологема «русский мир» значит понят те коды, которые заложены в русском языке. Понять коды русского языка - значит спуститься в седую глубину веков и прикоснуться к церковнославянскому наследию, запечатленному Кириллом и Мефодием.
История церковнославянского языка на Руси
С принятием христианства на Руси начинает использоваться церковнославянский язык. Очень рано (уже в X —XI вв) он становится книжно-литературным языком восточных славян, при этом в Киевской Руси он складывается в результате усвоения старославянских традиций в древнерусских условиях.
Это был обработанный с точки зрения нормы, особым образом кодифицированный, полифункциональный, стилистически дифференцированный язык культа и культуры, противопоставленный языку бытового общения и языку восточнославянской деловой письменности. Этому обстоятельству способствовало прежде
всего то, что старославянский язык являлся языком переводов с литературно развитого греческого. Отыскивая и находя в славянских языках эквиваленты греческих слов, форм, конструкций, терминов, славянские переводчики уже в древнейших памятниках создали язык, богатый лексически, с развитым синтаксисом, хорошо обработанный филологически, стилистически дифференцированный, реализованный в произведениях разных жанров.
Таким образом, в силу специфики создания старославянский (а затем и церковнославянский) унаследовал все достижения греческого
языка. Кроме того, при том, что главной целью солунских
братьев было создание языка богослужебных книг, способных служить просвещению славян, «дабы отверзлись уши глухих, дабы услышали слова книжные и ясна стала речь косноязычных», объективно ими были созданы образцы жанров, которые начали активно разрабатываться в разных славянских культурах и литературах: Евангелия открыли жанр жития и притчи; Отеческие книги (проповеди и слова) дали начало оригинальной славянской проповеднической литературе; Номоканон и Закон судный людем в какой-то степени определили направление развития юридической письменности; Псалтырь положила начало древней
религиозной поэзии; в Деяниях апостолов открылся своеобразный вид исторической хроники; в Посланиях апостолов получил отправную точку в своем развитии жанр послания.
Особенностью церковнославянского языка в России по сравнению с латинским на Западе, выполнявшим ту же функцию, было то, что для славян он был близкородственным, а поэтому обладал способностью адаптироваться к инославянским условиям и воспринимался как кодифицированный, нормированный, литературный вариант родного языка.
Церковнославянский язык стал прежде всего языком беседы с Богом, языком богослужения, богослужебных книг. И в этом своем качестве на Руси он пережил долгую тысячелетнюю историю и в основных своих чертах сохраняется и в сегодня издаваемой литературе, обслуживающей потребности православного богослужения.
Церковнославянский язык был также языком науки, на котором излагались представления о мире, человеке, истории. Большой популярностью пользовалась на Руси богословская литература-переводы сочинений римских и византийских богословов, сборники житий святых — Прологи и Четьи-Минеи, апокрифы, предания, не включенные в каноническую Библию, но, судя по количеству списков, достаточно широко известные читающей Руси. Они также пришли к русскому читателю и слушателю на церковнославянском языке.
Примерно в XI в. возникает оригинальная (непереводная) древнерусская литература. В ней разрабатываются жанры, как пришедшие вместе с христианской литературой, так и родившиеся на восточнославянской почве (нет, например, среди переводных произведений точного соответствия жанру русских летописей), и все они писаны по-церковнославянски, поскольку пришедший с христианской литературой язык становится языком высокой русской книжности, обладает высоким авторитетом и несомненным престижем и втягивает в сферу своего влияния нарождающуюся новую культуру.
К древнейшим церковнославянским текстам относятся памятники, созданные в Киевской Руси русскими по рождению авторами. Это произведения церковно-политического красноречия: “Слова” Илариона, Луки Жидяты, Кирилла Туровского, Климента Смолятича и других, нередко безымянных авторов. Это произведения житийные: . “Житие Феодосия”, “Патерик Киево-Печерский”, “Сказание и Чтение о Борисе и Глебе”, сюда же примыкает и каноническая церковно-юридическая письменность: “Правила”, “Уставы” и т. д. Очевидно, к этой же группе могут быть отнесены и произведения литургического и гимнографического жанра, например разного рода молитвы и службы (Борису и Глебу, празднику Покрова и т. п.), созданные на Руси в древнейшую пору. Практически язык этого рода памятников почти не отличается от того, который представлен в произведениях переводных, южно- или западнославянского происхождения, копировавшихся на Руси русскими писцами. В обеих группах памятников мы обнаруживаем те общие черты смешения речевых элементов, которые присущи старославянскому языку русского извода.
К текстам, в которых выделяется собственно русский письменный язык того времени, причисляются все без исключения произведения делового или юридического содержания, независимо от использования при их составлении того или иного писчего материала. К данной группе мы отнесем и “Русскую правду”, и тексты древнейших договоров, и многочисленные грамоты, как пергаменные, так и списки с них на бумаге, сделанные позднее, и, наконец, в эту же группу мы включаем и грамоты на бересте, за исключением тех из них, которые можно было бы назвать образцами “малограмотных написаний”.
К памятникам собственно литературной стилистической разновидности древнерусского языка относятся такие произведения светского содержания, как летописи, хотя приходится учитывать разнохарактерность их состава и возможность иностильных вкраплений в их текст. С одной стороны, это отступления церковнокнижного содержания и стиля, как, например, известное “Поучение о казнях божиих” в составе “Повести временных лет” под 1093 г. или житийные повести о постриженниках Печерского монастыря в том же памятнике. С другой стороны, это документальные внесения в текст, как, например, список с договоров между древнейшими киевскими князьями и византийским правительством под 907, 912, 945, 971 гг. и др. Кроме летописей, к группе собственно литературных памятников мы относим произведения Владимира Мономаха (с теми же оговорками, что и относительно летописей) и такие произведения, как “Слово о полку Игореве” или “Моление Даниила Заточника”. Сюда же примыкают и произведения жанра “Хожений”, начиная с “Хожения Игумена Даниила” и др.
Церковнославянский язык оказывается языком переводов, осуществляемых на Руси. Летописи рассказывают о распространении книжности и образования у восточных славян. После принятия христианства князь Владимир «послал собирать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное» (X в.), а в 1037 г. Ярослав «заложил город большой и собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением Божественным. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, а мы пожинаем, получая учение книжное».
Д.С.Лихачев считает, что в этой переводческой школе при храме Софии в Киеве работали те самые русские из детей «нарочитой чади» (лучших людей), которых Владимир приказал набирать для обучения. Научное исследование памятников древнерусской литературы открывает все большее количество переводов, которые были сделаны в XI в. с греческого на русский, и при этом — русскими переводчиками.
К их числу относятся памятники древнерусской переводной литературы, заведомо или с большой долей вероятности переведенные на Руси, в особенности произведения светского характера, такие как “Александрия”, “История Иудейской войны” Иосифа Флавия, “Повесть об Акире”, “Девгеньево деяние”, Хроника Георгия Амартола, Христианская топография Козьмы Индикоплова и многие другие.
Эти переводные памятники предоставляют особенно широкий простор для историко-стилистических наблюдений и по их относительно большому объему в сравнении с литературой оригинальной, и по разнообразию содержания и интонационной окраски.
Церковнославянский язык становится также языком переводной деловой и юридической письменности — языком Закона судного людем, Мерила праведного, Устава Студийского, договоров русских князей с греками, сохранившихся в тексте летописи.
Таким образом, церковнославянский язык обладал таким важным свойством литературного языка, как полифункциональность, и обслуживал разные потребности культурной жизни восточных славян.
Церковнославянскому языку присуща и такая особенность литературного языка, как стилистическая дифференциация: в текстах разных жанров, в произведениях сакрального и мирского содержания он выступал в двух своих вариантах — более и менее строгом. А. М. Селищев писал о том, что элементы разговорного русского языка при переписывании и создании новых произведений проникали в той или иной мере в язык рукописей, выполнявшихся русскими писцами. Влияние русского языка, родного
языка писцов, неодинаково отражалось в древнерусских произведениях: наличие элементов восточнославянского языка в языке рукописей зависело от степени грамотности и начитанности писца, а также от того, была ли рукопись копией со старославянского оригинала или представляла собой оригинальное произведение русского книжного человека: в списках со старославянских оригиналов элементы древнерусского языка отражались слабее, чем в оригинальных произведениях. Степень использования черт родного языка зависела и от содержания произведения: в церковно-богослужебных текстах, в торжественных словах, проповедях элементы книжного, старославянского, языка строго соблюдались русскими книжными людьми, в произведениях же, ближе стоявших к общественно-бытовой жизни, в летописях и в особенности в деловых документах более значительными были элементы бытовой русской речи.
Исследования последних лет показали, что можно констатировать существование двух вариантов нормы церковнославянского языка, реализовавшихся в памятниках разных жанров, — строгой и сниженной нормы. Первая характеризуется последовательным отталкиванием от восточнославянских элементов, а вторая до-
пускает достаточно широкое проникновение черт древнерусского (восточнославянского) языка, которые оказываются не случайными элементами, а существуют в языке в качестве допустимых вариантов, равноправных церковнославянизмам. Интересно отметить, что в языке памятников переводной деловой письменности реализуется строгая норма церковнославянского языка независимо от содержания документа или характера свода законов, тогда как восточнославянская деловая письменность писана по-русски .
Новый этап в развитии русского общенародного и литературно-письменного языка начинается со второй половины XIV в. и связан с формированием централизованного государства вокруг Москвы. Феодальная раздробленность сменяется новым объединением восточнославянских земель на северо-востоке. Это объединение явилось причиной образования великорусской народности, в состав которой постепенно вливаются все носители русского языка, находившиеся под властью татаро-монголов. Параллельно в XIII-XV вв. те части восточнославянского населения, которым удалось избежать татаро-монгольского завоевания (на западе), входят в состав литовско-русского княжества, на территории которого образуется западно-русская народность, вскоре распавшаяся на белорусскую (под властью Литвы) и украинскую (под властью Польши) народности. Таким образом, сначала феодальная раздробленность, а затем татаро-монгольское завоевание и захват западнорусских земель Литвой и Польшей становятся причиной разделения когда-то единой древнерусской (восточнославянской) народности на три восточнославянских: великорусскую, белорусскую и украинскую. Общность исторической судьбы трех братских народностей обусловила самую тесную близость между всеми тремя языками восточнославянских народов и вместе с тем обеспечила их независимое, самостоятельное развитие.
Письменный литературный язык всех восточнославянских ветвей в XIV-XV вв. продолжает развиваться на той же общей основе древнерусского языка и до XVII в. остается единым, распадаясь лишь на зональные варианты.
Обратимся к более подробному анализу языка ранней московской письменности. Наряду с духовными грамотами первых московских князей, Ивана Калиты, его сыновей - Симеона Ивановича Гордого и Ивана Ивановича, и его внука Дмитрия Донского, к памятникам ранней письменности относится и вышеназванная запись на “Сийском евангелии”, датируемая 1340 г. В записи сообщается, что церковная книга евангелие-апракос была переписана “в градЬ МосквЬ на Двину… повелением” великого князя Ивана, что показывает значение Москвы как общерусского центра, снабжавшего церковными книгами даже далекий Север. Наряду с этим запись содержит восторженную характеристику деятельности московского князя, представляющую собою своеобразное литературное произведение,-“Похвалу Ивану Калите”. Она содержится на л. 216 рукописи с обеих его сторон, занимая по два столбца, и представляет собою редчайший случай сохранения до наших дней древнерусского литературного памятника в автографе. Это особенно ценно для истории литературного языка, ибо анализ памятника не требует предварительного текстологического исследования. Дьяки Мелентий и Прокоша проявили себя как опытные авторы, незаурядные знатоки различных языков и литературно-традиционных текстов. Например, встречается еврейское словосочетание сего upyк, которое, видимо, следует читать, как сено аруко, т. е. обозначение талмудического календарного термина “долгий год”, когда, согласно еврейскому календарю, вставляется дополнительный месяц, “второй адар”, с целью выровнять отставание лунного года от солнечного (а, 4), еврейское название месяца нисана (а, 7); римское обозначение
даты: “в Е_. и. каландъ м(с_)ца марта” (а, 5-6). Анализ календарных данных записи позволяет датировать ее с полной точностью: она составлена 25 февраля 1340 г.
В тексте записи богато представлен цитатный фонд. Появление в русской земле (“в земли апустЬвшии”) праведного князя, творящего суд “не по мзде”, якобы предвозвещено библейским пророком Иезекиилем. В ветхозаветной книге, надписанной именем названного пророка и хорошо знакомой древнерусским читателям в древнеславянском тексте “Толковых пророков”, древнейший список которых был переписан в Новгороде еще в 1047 г. попом Упирем, мы не находим в точности тех слов, которые мы читаем в записи (а, 13-18). Вероятно, писцы цитировали свой источник не дословно, ибо все же в нем обнаружено немало мест, сходных с записью по смыслу и по стилю.
Далее читается точная и пространная цитата из известного памятника древнерусской литературы Киевского периода-“Слова о Законе и Благодати” (а, 22-б, 1). Словами названного литературного источника писцы сравнивают деятельность Ивана Калиты как просветителя Москвы с его предшественниками - апостолами, просветителями древнего Рима, Азии, Индии и Иераполя. Данное место “Слова о Законе и Благодати” многократно цитировалось русскими и южнославянскими авторами в XIII-XV вв. Цитата в названной записи наиболее верно передает источник. В свою очередь в произведениях позднейшей московской письменности этот же текст цитируется не по источнику, а по записи на “Сийском евангелии”. Таким образом, запись может рассматриваться в качестве своеобразного фокуса, преломившего в себе луч предшествующей эпохи и передавший его отблеск будущему.
Однако авторы “Похвалы…” не удовлетворились одной лишь цитатой из памятника XI в. Традицию, идущую от Илариона Киевского, они смело объединяют с иными традиционными линиями, восходящими к “Повести временных лет” и к преданиям, жившим в роде князей из потомства Владимира Мономаха. Такова реминисценция легенды о посещении Русской земли апостолом Андреем Первозванным (б, 1-3). Далее Иван Калита сопоставляется с императором Константином, основателем Царьграда (б, 9-10), с византийским императором, законодателем Иустинианом (б, 25), с известным византийским монархом Мануилом Комнином (в, 16-22).
Все отмеченное доказывает хорошую осведомленность авторов записи в древней славяно-русской переводной литературе. Им, несомненно, известны и переводные византийские хроники (Георгия Амартола, Иоанна Малалы, Никифора, Манассии), где говорится о названных деятелях мировой истории. Проявили Мелентий и Прокоша свое знание и такого переводного произведения, как “Сказание об Индийском царстве”, где император Мануил выступает совопросником легендарного “царя и попа Иоанна”, благочестивого владетеля Индийской земли. Эта повесть сербского происхождения пришла на Русь не позднее начала XIII в. и отразилась в “Слове о погибели Рускыя земли”, в котором говорится о страхе императора Мануила перед предком князя Ивана - Владимиром Мономахом. Есть основание полагать, что авторы записи опирались не только на переводную книжность, но и на устные легенды, в которых имя царя Мануила переплеталось с именами русских князей Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
Если в отношении литературной начитанности Мелентий и Прокоша показали себя последователями и продолжателями стилистических традиций Киевской Руси, то отдельные наблюдения над языком записи позволяют усмотреть в нем явления, характерные для последующего периода в развитии московской письменности XIV-XVI вв. Например: аканье в начале слова апустЬвшии (а, 14), а также написание князь великои (б, 16) с флексией -ой вм. -ый, что тоже приближает наш памятник к московскому говору последующего времени.
Обращает на себя внимание в записи следование писцов в отдельных случаях нормам среднеболгарского правописания. Это касается передачи букв я и iA через букву Ь. Отметим, например, бжественаЬ писания (б. 20), любА и оудержаЬ (деепричастие-в, 20-21), поминаЬ (то же-г. 8). Подобные языковые черты принято считать проявлением второго южнославянского влияния на русскую письменность, возникшего, однако, позднее, с конца XIV в.
Отметим еще своеобразный грамматический оборот с паратактическим соединением существительных: повелениемъ рабомъ бимъ (а, 10). Подобные паратактические сочетания обычны для языка русской письменности и устного творчества, начиная с XV в.
Наконец, своеобразие синтаксического строя в “Похвале…” характеризуется нагромождением независимых причастных оборотов и оборотов дательного самостоятельного, не связанных по смыслу с подлежащим (например, в, 1-15). Подобные же явления синтаксической стилистики станут нередкими в памятниках XV-XVI вв., в особенности в панегирической житийной литературе.
Итак, анализ языка наиболее раннего памятника московской литературы позволяет сделать два основных вывода: эта литература неразрывно связана со стилистическими традициями киевской эпохи, она рано вырабатывает в себе стилистические черты, характерные для ее позднейшего развития в XV- XVI вв.
Формирование централизованного государства вокруг Москвы кладет конец ранее существовавшим изолированным многочисленным удельным княжениям. Это политическое и экономическое объединение разрозненных прежде русских земель неизбежно повлекло за собою развитие и обогащение разнообразных форм деловой переписки.
Если в период феодальной раздробленности удельный князь, владения которого иногда не простирались далее одного населенного пункта или течения какой-либо захолустной речушки, мог ежедневно видеться со всеми своими подданными и устно передавать им необходимые распоряжения, то теперь, когда владения Московского государства стали простираться от берегов Балтики до впадения Оки в Волгу и от Ледовитого океана до верховий Дона и Днепра, для управления столь обширной территорией стала необходима упорядоченная переписка. А это потребовало привлечения большого числа людей, для которых грамотность и составление деловых бумаг стали их профессией.
В первые десятилетия существования Московского княжества с обязанностями писцов продолжали справляться служители церкви - дьяконы, дьяки и их помощники - подьяки. Так, под Духовной грамотой Ивана Калиты читаем подпись: “а грамоту псалъ дьякъ князя великого Кострома”. Дьяками по сану были авторы “Похвалы…” Мелентий и Прокоша. Однако уже скоро письменное дело перестало быть привилегией духовенства и писцы стали вербоваться из светских людей. Но в силу инерции языка термин, которым обозначали себя эти светские по происхождению и образу жизни чиновники Московского государства, сохранился. Словами дьяк, подьячий продолжали называть писцов великокняжеских и местных канцелярий, получивших вскоре наименование приказов. Дела в этих учреждениях вершились приказными дьяками, выработавшими особый “приказный слог”, близкий к разговорной речи простого народа, но хранивший в своем составе и отдельные традиционные формулы и обороты.
Неотъемлемой принадлежностью приказного слога стали такие слова и выражения, как челобитная, бить челом (просить о чем-либо). Стало общепринятым, чтобы проситель в начале челобитной перечислял все многочисленные титулы и звания высокопоставленного лица, к которому он адресовал просьбу, и обязательно называл полное имя и отчество этого лица. Наоборот, о себе самом проситель должен был неизменно писать лишь в уничижительной форме, не прибавляя к своему имени отчества и добавляя к нему такие обозначения действительной или мнимой зависимости, как раб, рабишко, холоп.
В указанный исторический период особенное распространение получает слово грамота в значении деловая бумага, документ (хотя это слово, заимствованное в начальный период славянской письменности из греческого языка, и раньше имело такое значение). Появляются сложные термины, в которых существительное определяется прилагательными: грамота душевная, духовная (завещание), грамота договорная, грамота складная, грамота приписная, грамота отводная (устанавливавшая границы земельных пожалований) и т. д. Не ограничиваясь жанром грамот, деловая письменность развивает такие формы, как записи судебные, записи расспросные.
К XV-XVI вв. относится составление новых сводов судебных постановлений, например, “Судебник” Ивана III (1497г.), “Псковская судная грамота” (1462-1476 гг.), в которых, опираясь на статьи “Русской правды”, фиксировалось дальнейшее развитие правовых норм. В деловой письменности появляются термины, отражающие новые социальные отношения (брат молодший, брат старейший, дети боярские), новые денежные отношения, сложившиеся в московский период (кабала, деньги и т. д.). Производными терминами можем признать такие, как люди деловые, люди кабальные и т. д. Развитие обильной социальной терминологии, вызванное к жизни усложнением общественно-экономических отношений, связано с непосредственным воздействием на литературно-письменный язык народно-разговорной речевой стихии.
Б. А. Ларин, рассматривая вопрос о том, насколько можно считать язык деловых памятников XV-XVII вв. непосредственным отражением разговорного языка той эпохи, пришел к отрицательному выводу. По его мнению, полностью разделяемому и нами, несмотря на относительно большую близость языка памятников этого типа к разговорной речи, даже такие из них, как расспросные речи, испытали на себе непрерывное и мощное воздействие письменной орфографической традиции, ведущей свое начало еще от древнеславянской письменности Х-XI вв. Свободным от подобного традиционного воздействия не мог быть ни один письменный источник Древней Руси во все периоды исторического развития.
Обогащение и увеличение числа форм деловой письменности косвенно влияло на все жанры письменной речи и в конечном счете способствовало общему поступательному развитию литературно-письменного языка Московской Руси. Те же писцы, дьяки и подьячие в свободное от работы в приказах время брались за переписывание книг, не только летописей, но и богословско-литургических, при этом они непроизвольно вносили в тексты навыки, полученные ими при составлении деловых документов, что приводило ко все возрастающей пестроте литературно-письменного языка.
Этот язык, с одной стороны, все более и более проникался речевыми чертами деловой письменности, приближавшейся к разговорному языку народа, с другой-подвергался искусственной архаизации под воздействием второго южнославянского влияния.
Здесь следует подробнее сказать именно о языковой стороне этого весьма широкого по своим социальным причинам и последствиям историко-культурного процесса, поскольку другие его стороны раскрыты в имеющейся научной литературе более обстоятельно.
Первым обратил внимание на лингвистический аспект проблемы второго южнославянского влияния акад. А. И. Соболевский в монографии “Переводная литература Московской Руси” (М., 1903). Затем этими вопросами занимался акад. М. Н. Сперанский. В советский период им были посвящены работы Д. С. Лихачева.» Разработке проблемы уделяют внимание также югославские и болгарские исследователи.
Теперь уже может считаться общепризнанным, что процесс, обычно обозначаемый как второе южнославянское влияние на русский язык и русскую литературу, тесно связан с идеологическими движениями эпохи, с возрастающими и крепнущими отношениями тогдашней Московской Руси с Византией и южнославянским культурным миром. Этот процесс должен рассматриваться как одна из ступеней в общей истории русско-славянских культурных связей.
Прежде всего следует заметить, что второе южнославянское влияние на Русь должно быть сопоставлено с первым влиянием и вместе с тем противопоставлено ему. Первым южнославянским влиянием следует признать воздействие южнославянской культуры на восточнославянскую, имевшее место при самом начале восточнославянской письменности, в Х- XI вв., когда на Русь из Болгарии пришла древнеславянская церковная книга.
Само образование древнерусского литературно-письменного языка обязано воздействию древней южнославянской письменности на разговорную речь восточного славянства. Однако к концу XIV в. это воздействие постепенно сходит на нет, и письменные памятники того времени вполне ассимилировали древнеславянскую письменную стихию народно-разговорной восточнославянской речи.
В годы расцвета древнерусского Киевского государства южнославянские страны, в частности Болгария, подверглись разгрому и порабощению Византийской империей. С особенной силой византийцы преследовали и уничтожали в это время все следы древней славянской письменности на Болгарской земле. Поэтому в XII-начале XIII в. культурное воздействие одной ветви славян на другую шло в направлении из Киевской Руси на Балканы. Этим объясняется проникновение многих произведений древнерусской письменности к болгарам и сербам именно в данную эпоху. Как отмечал М. Н. Сперанский, не только такие памятники литературы Киевской Руси, как “Слово о Законе и Благодати” или “Житие Бориса и Глеба”, но и переводные произведения - “История Иудейской Войны” или “Повесть об Акире Премудром” - в названный риод приходят из Киевской Руси к болгарам и сербам, использовавшим культурную помощь Руси при своем освобождении от византийской зависимости в начале XIII в.
В середине XIII в. положение снова изменяется. Русская земля переживает жестокое татаро-монгольское нашествие, сопровождавшееся уничтожением многих культурных ценностей и вызвавшее общий упадок искусства и письменности.
К концу XII в. болгарам, а затем и сербам удается добиться государственной независимости от Византийской империи, завоеванной в 1204 г. крестоносцами (западноевропейскими рыцарями). Около середины XIII в. начинается вторичный расцвет культуры и литературы в Болгарии-“серебряный век” болгарской письменности (в отличие от первого периода ее расцвета в Х в., называемого “золотым веком”). Ко времени “серебряного века” относятся обновление старых переводов с греческого и появление многих новых переводных произведении, причем заимствуются преимущественно произведения аскетико-мистического содержания, что стоит в связи с распространением движения исихастов (монахов-молчальников). Серьезной реформе подвергается литературный язык, в котором утверждаются новые строгие орфографические и стилистические нормы.
Орфографическая реформа болгарского языка обычно связывается с деятельностью литературной школы патриарха Евфимия в тогдашней столице Среднеболгарского царства - Тырнове. Время расцвета Тырновской школы около 25 лет, с 1371 по 1396 г., до момента завоевания и порабощения Болгарии турками-османами.
Параллельно в XIII-XIV вв. начинает развиваться славянская культура и литература в Сербии. Славянское возрождение на Балканах в это время происходило, как и в XI- XII вв., под воздействием Руси.
К концу XIV в., когда Русь начинает оправляться после татаро-монгольского погрома и когда вокруг Москвы складывается единое централизованное государство, среди русских ощущается нужда в культурных деятелях. И тут на помощь приходят уроженцы славянского Юга - болгары и сербы. Из Болгарии происходил митрополит Киприан, возглавлявший в конце XIV-начале XV вв. русскую церковь. Киприан был тесно связан с Тырновской литературной школой и, возможно, являлся даже родственником болгарского патриарха Евфимия. По почину Киприана на Руси было предпринято исправление церковнобогослужебных книг по нормам среднеболгарской орфографии и морфологии. Продолжателем дела Киприана был его племянник, тоже болгарин по рождению, Григорий Цамблак, занимавший пост митрополита киевского. Это был плодовитый писатель и проповедник, широко распространивший идеи Тырновской литературной школы. Позднее, в середине и в конце XV в., в Новгороде, а затем в Москве трудится автор многочисленных житийных произведений Пахомий Логофет (серб по рождению и по прозванию: Пахомий Серб). Могут быть названы и другие деятели культуры, которые нашли в эти века убежище на Руси, спасаясь от турецких завоевателей Болгарии и других южнославянских земель.
Однако нельзя сводить второе южнославянское влияние только к деятельности выходцев из Болгарии и Сербии. Это влияние было весьма глубоким и широким социально-культурным явлением. К нему относится проникновение на Русь идей монашеского молчальничества, воздействие византийского и балканского искусства на развитие русского зодчества и иконописи (вспомним творчество художников Феофана Грека и Андрея Рублева) и, наконец, развитие переводной и оригинальной литературы и письменности. Для того чтобы этот прогрессивный, поступательный процесс смог широко проявиться во всех областях культуры, необходимы были и внутренние условия, заключавшиеся в развитии тогдашнего русского общества.
Очевидно, в тогдашней Московской Руси господствовавшие классы и идеологи складывавшегося в те годы самодержавного строя стремились возвысить над обычными земными представлениями все, связанное с его авторитетом. Отсюда и желание сделать официальный литературно-письменный язык как можно больше отличающимся от повседневной разговорной речи, противопоставить его ей. Имело значение и то обстоятельство, что церкви в это время приходилось бороться со многими антифеодальными идеологическими движениями, выступавшими в форме Ересей (стригольников и др.), а эти последние опирались на поддержку народа, были ближе и к народной культуре, и к народной речи.
Взаимная связь между самодержавным государством и православной церковью привела к созданию представления о Москве как о главе и центре всего православия, о Москве- Новом Иерусалиме и Третьем Риме. Эта идея, проявившая себя одновременно со Вторым южнославянским влиянием, способствовала утверждению московского абсолютизма и служила тормозом для развития общенародного языка, отдалив его официальную разновидность от просторечия.
Однако вместе с тем второе южнославянское влияние не было лишено и положительных сторон, обогатив лексику я стилистику языка в его высоких стилях и укрепив связи Московской Руси с южнославянскими землями.
При изучении историко-лингвистических вопросов; связанных со вторым южнославянским влиянием, необходимо исходить из подробного сопоставления русских письменных памятников конца XIV-XV вв. с южнославянскими их списками, привозившимися в эти века на Русь из Болгарии и Сербии. Обратимся поэтому к таким сторонам письменных памятников, как палеография, орфография, язык и стиль.
Ощутимые сдвиги происходят в конце XIV в. в русской палеографии. В XI-XIII вв. единственной формой письма был устав, с его отчетливыми, отдельно стоящими, крупными буквами. В первой половине XIV в. наряду с этим появляется старший полуустав, письмо более простое, но приближающееся к уставу. К концу XIV в. старший полуустав сменяется младшим, близким по начертаниям к беглому курсиву. Меняется характер внешнего оформления рукописей. В киевскую эпоху господствует “звериный (тератологический)” орнамент, с конца XIV в. он исчезает и на его месте появляется орнамент растительный или геометрический. В миниатюрах рукописей начинает преобладать золото и серебро. Появляется вязь - сложное слитное написание букв и слов, носящее орнаментальный характер. Возникает такая характерная подробность в оформлении рукописей, как “воронка”, т е постепенное сужение строк к концу рукописи, завершающейся скупым острым рисунком. Изменяются начертания букв е, у, Ь (ы), появляется буква “зело”, до этого лишь обозначавшая число 6. Все это дает возможность с первого взгляда отличить рукопись, подвергшуюся второму южнославянскому влиянию, от списков предшествующей поры.
Возникает своеобразная орфографическая мода. В этот период снова внедряется в активное употребление буква “большой юс”, уже с XII в. совершенно вытесненная из русских письменных памятников. Поскольку в живом русском произношении давно никаких носовых гласных не было, эта буква стала употребляться не только в тех словах, где она была этимологически оправдана, например, в слове рVка, но и в слове дVша, где она вытеснила этимологически правильное написание оу В XIV-XV вв. употребление буквы “большой юс” может рассматриваться как чисто внешнее подражание укоренившейся болгарской орфографической моде. Под влиянием болгарского же письма возникают написания гласного я без йотации, в форме а после гласных: моа (вм. моя), своа, спасенiа и т. д. Это написание проникает в титул московского государя-всеа Руси,-где удерживается вплоть до XVII в.
Под влиянием среднеболгарского правописания устанавливается начертание редуцированных после плавных согласных в соответствии с общеславянским их слоговым характером, хотя в русском языке подобное произношение никогда не имело места (например: влъкъ, връхъ, пръстъ, пръвый и т. д.), что широко отразилось в орфографии такого памятника, как “Слово о полку Игореве”. Наблюдается стремление к орфографическому сближению с оригиналом греческих заимствований. Так слово ангел (греч.)aggeloj), писавшееся в киевскую эпоху в соответствии с русским произношением - аньгелъ, теперь пишется по-гречески с “двойной гаммой”: аггелъ. Книжники при этом придумали обоснование графических отличий: слово, писавшееся под титлом, обозначало собственно ангела, духа добра, слово же без титла произносилось, как писалось, аггел и понималось как обозначение духа зла, беса: “диаволу и аггелом его”.
Вероятно, к периоду второго южнославянского влияния может быть отнесено освоение русским литературным языком некоторых церковнославянизмов, до этого употреблявшихся преимущественно в восточнославянской огласовке. По мнению А. А. Шахматова, слово плЬн, действительно писавшееся вплоть до 1917 г. с буквой “ять” в корне, в отличие от прочих старославянизмов с сочетаниями рЬ, лЬ в корне, рано изменивших в русском произношении и написании корневую гласную Ь на е (например, племя, время, бремя и т. п.), сохранило “ять” потому, что, вытеснив восточнославянскую параллель полон, утвердилось в русском литературном языке лишь в XIV- XV в.
Одновременно начинается внедрение в русскую лексику слов с сочетанием согласных жд (из исконного dj). Это сочетание звуков являлось безусловно невозможным для русского языка до падения слабых редуцированных и потому не присутствовало в древнейших старославянизмах, например, преже, одежя, надежя и пр. Современные надежда, одежда, вождь, рождение, хождение и др. обязаны эпохе второго южнославянского влияния. Однако окончательно утвердились подобные слова в русском языке (и в церковнославянском изводе русского языка) лишь в XVII в. после реформы Никона.
В период второго южнославянского влияния возникают своеобразные лексические дублеты, развившиеся из первоначально единого слова. Так, старославянское и древнерусское съборъ (собрание) при падении слабых редуцированных превратилось в слово сбор, имеющее в наши дни конкретные и бытовые значения, произношение того же слова с сохранением гласного после с в приставке создало слово соборъ, которому присущи узкоцерковные значения и употребления: 1) главная, большая церковь или 2) собрание уважаемых (духовных) лиц.
В период второго южнославянского влияния наблюдается массовое исправление более древних русских рукописных текстов. Справщики настойчиво стремятся выправлять замеченные ими русизмы, воспринимавшиеся как отклонение от общепринятой нормы, и заменять их параллельными старославянскими образованиями. Так, по нашим наблюдениям, в рукописи из бывшей коллекции Ундольского № 1 (ныне в ГБЛ), датируемой XV в., текст древнерусского перевода библейской книги “Есфирь” (гл. II, ст. 6) имеет следующий вид. Первоначальныи текст: “Мужь июдЬянинъ бяше в СусанЬ градЬ, имя ему Мардахаи… еже полоненъ бяше из Иерусалима с полоном… иже полони Навходоносор царь вавилоньский”. Справщик старательно перечеркивает буквы о в словах полоненъ, Нолономъ, полони и ставит наверху, после буквы л- букву Ь, превращая эти слова в плЬненъ, плЬном, плЬни.
Подобные же операции можно наблюдать и в рукописях, содержащих текст “Русской правды” и другие памятники киевской эпохи. Очевидно, подобная же судьба постигла и текст “Слова о полку Игореве”, в котором, как мы могли убедиться ранее (см. гл. 6), многие старославянизмы обязаны своим появлением эпохе второго южнославянского влияния.
По подсчетам, произведенным в книге Г. О. Винокура, соотношение неполногласной лексики с полногласной в памятниках XIV в. (до второго южнославянского влияния) составляет 4:1; в памятниках же XVI в. это соотношение изменяется в сторону увеличения неполногласных сочетаний-10:1. Hо все же до конца искоренить восточнославянскую по фонетическому оформлению лексику не удалось и в этот период.
В сильной степени сказалось второе южнославянское влияние на стилистической системе тогдашнего литературного языка, что выразилось в создании особой стилистической манеры “украшенного слога”, или “плетения словес”. Такая манера, получившая особенное распространение в памятниках официальной церковной и государственной письменности, в житиях, в риторических словах и повествованиях, характеризуется повторениями и нагромождением однокоренных образований, синтаксическим и семантическим параллелизмом. Наблюдается в это время и подчеркнутое стремление к созданию сложных слов из двух, трех и более основ, употребляемых в качестве украшающих эпитетов. Однако не следует преувеличивать степень собственно южнославянского воздействия на стиль русского литературного языка данного периода. Отдельные примеры, приводимые в книге Д. С. Лихачева в качестве образцов “украшенного слога” периода второго южнославянского влияния, на деле оказываются восходящими к древним текстам псалтири или других библейских книг, переведенных еще в кирилло-мефодиевскую эпоху.
Для иллюстрации тех стилистических явлений, о которых здесь было сказано, приведем отрывок из “Троицкой летописи” пол 1404 г.: “В лЬто 6912, индикта 12, князь великий Василей Дмитреевичь замысли часникъ и постави е на своемь дворЬ за церковью за стымь БлаговЬщеньемъ. Сии же часникъ наречется часомЬрье: на, всякий же час ударяше молотомъ въ колоколъ, размЬряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не бо человЬк ударяше, но человЬковидно, самозвонно и самодвижно, страннолЬпно нЬкако створенно есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. Мастеръ же и художникъ бЬяше сему некоторые чернецъ иже от Святыя Горы пришедый, родо” сербинъ, именем Лазарь. ЦЬна же сему бЬяше вящьше полуЬтораста рублевъ”.
В приведенном отрывке выспренный украшенный слог “плетения словес” сказался в нагромождении эпитетов, определяющих действие чудесного часника. Обратим внимание на такие-сложные слова, как часомЬрье, человЬковидно, самозвонно и самодвижно, страннолЬпно, преизмечтано и преухищрено. И тут же бытовые русизмы: ударяше молотомъ въ колоколъ, полувтораста рублевъ.
Этот текст может быть признан типичным для своей эпохи, В нем можно видеть как силу второго южнославянского влияния - оно обогатило стилистическую систему литературного языка, так я его слабую сторону - излишнюю витиеватость. Но влияние не коснулось исконных основ нашего литературно-письменного языка, развивавшегося и в эту эпоху прежде всего по своим внутренним законам.
Языковая ситуация в Московском государстве в XVI- XVII вв. обычно представляется исследователям в форме двуязычия. Причинами столь резкого расхождения между собою различных типов или жанрово-стилистических разновидностей литературно-письменного языка должны быть признаны, с одной стороны, второе южнославянское влияние на официальную форму литературно-письменного языка и, происходившее одновременно с ним усиление народно-разговорных элементов в развивавшемся и обогащавшемся языке деловой письменности; с другой - различные темпы развития отдельных типов и разновидностей литературно-письменного языка. Официальная, книжно-славянская его разновидность искусственно задерживалась в своем развитии, не только продолжая хранить устарелые формы и слова, но и нередко возвращаясь к нормам древнеславянского периода. Язык же деловой письменности, стоявший ближе к разговорной речи, быстрее и последовательнее отражал все происходившие в ней фонетические и грамматические изменения. В результате к XVI в. различия между церковнославянским (церковнокнижным) и народно-литературным типом языка ощущались не столько в форме лексики, сколько в области грамматических форм.
Например, в то время как в народно-разговорной форме языка и в соответствии с этим в языке деловой письменности к XVI в. утвердилась и закрепилась близкая к современной система видо-временных форм глагола, в книжно-славянской форме литературно-письменного языка по традиции продолжали пользоваться старой видоЬременной системой и омертвевшими формами имперфекта, аориста и плюсквамперфекта, правда, не всегда с должной последовательностью и точностью.
Первым исследователем, заметившим московское двуязычие, был известный автор “Русской грамматики”, изданной в 1696 г. в Оксфорде, Г. Лудольф. Он писал тогда: “Для русских знание славянского языка необходимо потому, что не только св. Библия и остальные книги, по которым совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-либо вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком Поэтому чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем более применяет он славянских выражений в своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи”.
Таким образом, имея в виду конец XVII в., Лудольф прямо говорит о двуязычии в Московском государстве По его мнению, для того чтобы жить в Московии, необходимо знать два языка, ибо московиты говорят по-русски, а пишут по-славянски.
Однако если столь определенным представлялось положение о двуязычии к концу XVII в., то столетием или полутора столетиями ранее, в XVI в., оно не было еще столь ярко выражено. Кроме того, нельзя упускать из вида и то обстоятельство, что Лудольфу, как иностранцу, как наблюдавшему картину языка извне, многое могло представляться иначе, чем современному исследователю, подходящему к изучению этого вопроса прежде всего на основании исследования письменных памятников.
С нашей точки зрения, подлинного двуязычия, при котором необходим перевод с одного языка на другой, в Московском государстве XVI в. все же не было. В этом случае лучше говорить о сильно разошедшихся между собою стилистических разновидностях по существу одного и того же литературно-письменного языка. Если в киевский период, по нашему мнению, целесообразно выделять три основные жанрово-стилистические разновидности литературно-письменного языка: церковнокнижную, деловую и собственно литературную (или народно-литературную),-то московский период, и XVI в. в частности, имеет лишь две разновидности - церковнокнижную и деловую- поскольку промежуточная, народно-литературная разновидность к этому времени растворилась в двух крайних разновидностях литературно-письменного языка.
to, что в XVl в. мы имеем дело именно с двумя разошедшимися стилистическими разновидностями одного и того же литературного языка, а не с двумя различными языками, как это имело место, например, в средневековых Чехии или Польше при господстве официальной латыни, доказывается, по нашему мнению, тем фактом, что одни и те же авторы в пределах одного и того же произведения имели возможность свободно переходить от одной формы литературного изложения к другой в зависимости от микроконтекста, от содержания, темы и целевого назначения не всего произведения, а именно данного его отрезка.
Высказанное положение может быть доказано анализом текста. Обратимся, например, к “Посланиям и письмам” Ивана Грозного. Его послание к князю Андрею Курбскому, которое адресатом было совершенно справедливо оценено как “широковещательное и многошумящее”, изобилует богословскими рассуждениями по поводу божественной предустановленности царской самодержавной власти, насыщено церковнославянскими цитатами из библейских, богослужебных и летописных источников и поэтому, естественно, перенасыщено славянизмами и архаизмами Однако в этом же произведении, как только речь заходит о пережитых Иваном обидах со стороны бояр, тон резко меняется. Задетый за живое, автор не скупится на просторечие и смело переходит к разговорным грамматическим формам прошедшего времени на -л. Вот в каких словах, например, выражены воспоминания Ивана Грозного о его безрадостном детстве: “Едино воспомяну: нам бо во юности детства играющим, а князь Иван Васильевич Шуйский седит на лавке, локтем опершися, об отца нашего о постелю ногу положив; к нам не приклоняяся не токмо яко родительски, но еже властелински, яко рабское же ниже начало обретеся”.
А вот какими словами в том же произведении клеймит Иван Грозный измену своего политического противника: “И ты то все забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное целование, ко врагам христианским соединился еси”. Возражая Курбскому, он пишет: “И еже воевод своих различными смертьми расторгали есмя, а божиею помощию имеем у себя воевод множество и опричь вас, изменников. А жаловати есмя своих холопов вольны, а казнити вольны же есмя”.
Приведенными выдержками в достаточной степени ясно характеризуется внутренняя противоречивость стилистической системы “Посланий” Ивана Грозного, безусловно, яркого и талантливого мастера слога, причудливо объединяющего церковнославянизмы и разговорные элементы речи, приметы книжности и делового письма.
Не случайно, на наш взгляд, эта характерная стилистическая система получила столь резкую отповедь в ответном послании Курбского, обвинившего своего идейного противника в нарушениях стилистических норм того времени. А. Курбский писал в своем “Кратком отвещании”: “Твое писание приях… иже от неукротимого гнева с ядовитыми словами отрыгано, еж не токмо цареви… но простому, убогому воину сие было не достойно; а наипаче так от многих священных словес хватано, и те со многою яростию и лютостию, ни строками, а ни стихами, яко обычей искуссным и ученым…; но зело паче меры преизлишне и звягливо, целыми книгами, и паремьями целыми” и посланьми… Туто же о постелях, о телогреях, иные бесчисленные, воистину, якобы неистовых баб басни…”
Не менее типичен для своего времени и язык другого произведения той же эпохи - “Домостроя”. Автор этой книги, известный московский протопоп Сильвестр, близкий к Ивану Грозному в первые годы его правления, тоже проявил себя как незаурядный стилист, хорошо владевший обеими разновидностями литературно-письменного языка своего времени. В первой части книги (до гл. 20 включительно) явно преобладает книжная, церковнославянская речевая стихия. И это вполне объяснимо, так как начальные главы книги трактуют об идеологических и моральных проблемах. Нередко здесь и пространные цитаты из библейских книг, в частности вся глава двадцатая, согласно Коншинскому списку произведения, представляет собою не что иное, как дословно приводимую “Похвалу женам.” из библейской книги “Притчей Соломона” (гл. 31, ст. 10-31).
Приведем выдержку из гл. 17 “Како дети учити и страхом спасати”: “Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою и даст красоту души твоей. И не ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом биеши его не умрет, но здравее будет; ты бо, бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти”.Здесь достаточно показательны и лексика и синтаксис, вполне отвечающие нормам церковнославянского употребления.
В полную противоположность этому, в гл. 38 (“Как избная парядня устроити хорошо и чисто”) преобладает русская бытовая лексика, и синтаксис этой главы отличается близостью к разговорной, частично же к народно-поэтической речи: “Стол и блюда, и ставцы, и лошки, и всякие суды, и ковши, и братены, воды согрев изутра, перемыти, и вытерьти, и высушить; а после обеда тако же, и вечере. А ведра, и ночвы, и квашни, и корыти, и сита, и решета, и горшки, и кукшины, и корчаги,- також всегды вымыти, и выскресть, и вытереть, и высушить, и положить в чистом месте, где будет пригоже быти; всегда бъ всякие суды и всякая порядня вымыто и чисто бы было; а по лавке и по двору и по хоромам суды не волочилися бы, а ставцы, и блюда, и братены, и ковши, и лошки по лавке не валялися бы; где устроено быти, в чистом месте лежало бы опрокинуто ниц; а в какому судЬ што-ества или питие,-и то бы покрыто было чистоты ради”. Здесь, кроме детального перечисления реалий, бросается в глаза многосоюзие в синтаксическом построении фразы, что наблюдаем и в устном поэтическом творчестве.
Обратимся к стилистическому анализу некоторых литературных памятников XVI в., введенных в научный обиход в течение последних десятилетий.
Например, “Слово иное”, изданное Ю. К. Бегуновым.В этом произведении показаны эпизоды общественной борьбы, разгоревшейся в Московском государстве в первые годы XVI в. в связи с намечавшимся отчуждением в пользу великого князя церковных и монастырских земельных владений. Памятник по содержанию и по форме церковный. Его автор стремится выражать свои мысли и чувства на чистом и правильном церковнославянском языке, однако ему не всегда это удается.
В первой части “Слова иного” находим характерные диалоги между представителями высшей иерархии, которые, по-видимому, и в своих повседневных разговорах стремились изъясняться на церковнославянском языке. Вот образец этих реплик: “Таже глаголеть митрополит Генадию, архиепископу новугородцкому: «Что убо противу великому князю ничто же не глаголешь? С нами убо многорЬчивъ еси. НынЬ же ничто же не глаголешь?» Генадий же отвЬща: «Глаголете убо вы, азъ бо ограблен уже прежде сего»”. В этих репликах, несмотря на торжественно-библейский тон, сквозит скрытая ирония.
Для морфологической стороны текста показательно смешение грамматических форм: “Князь же Георгий всесвЬтлое ничто же о сих не глаголах”. Рассказчик употребил форму 1-го лица ед. числа аориста в согласовании с подлежащим, выраженным именем собственным, а согласно нормам более раннего времени ожидалась бы форма 3-го лица.
Но вот во второй части текста автор переходит к рассказу о столкновении на земельной меже иноков Троицкого монастыря с чиновниками великого князя. Здесь явно чувствуется воздействие на стиль повествования языка деловых документов того времени. Автор “Слова иного” пишет: “ПосрЬди же сихъ есть волость зовома Илемна, и нЬкоторыи си человЬци злу ради, живуще близ волости тоя, навадиша великому князю, глаголюще: «Конан чернецъ переорал земленую межу и твою ореть землю, великого князя». Князь же великий вскоре повелЬ черньца представити судищу своему. Мало же испытуя черньца, посла его в торгъ повелЬ его кнутием бити”.
Далее следует беседа между монастырским келарем Васьяном и великокняжескими чиновниками-недельщиками. Характерно, что в уста светских недельщиков вкладывается фраза, свидетельствующая об их хорошей начитанности в библейских ветхозаветных текстах. Они отказываются взять с монастыря деньги, “глаголюще: «Не буди намъ руки прострЬти на сребро Сергиева монастыря, да не ОгЬзееву проказу примемъ»”.Имеется в виду эпизод из библейской “4-й книги Царств” (гл. 5-6), где слуга и ученик пророка Елисея Гиезий, вопреки запрещению своего наставника, взял мзду с исцеленного пророком от проказы, и в наказание за это проказа исцеленного перешла к нему.
Третья, заключительная часть текста “Слова иного” рассказывает о походе престарелых насельников Троицкого монастыря в Москву с целью умолить великого князя не отчуждать монастырских земель. И в ту же ночь,-продолжает свое повествование автор “Слова…”,-“в ню же старцы тЬ двигнушася из монастыря, прииде же посещение от бога на великаго князя самодержца”. Но тут высокий стиль повествования не выдерживается, и сообщение о болезни, постигшей великого князя, передается в форме явного просторечия: “отняло у него руку и ногу и глаз”.
Финал повести снова подчеркнуто торжественный, выдержанный риторическим церковнославянским слогом: “игуменъ с братею, аки нЬкии ратницы крЬпцыи от брани возвратишася, славу воздаша богу, великаго князя самодержца смирившаго”
Второе произведение из числа недавно открытых и введенных в научный обиход - это древнерусская “Повесть про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина” (заглавие дано этому произведению его первым издателем - Д. Н. Альшицем).
Повесть рассказывает о казнях, проводившихся Иваном Грозным в Москве, “на Пожаре”, в лето 7082 (т. е. 1574 г.). Неизвестный автар, повествуя о современных ему событиях, стремится выдержать торжественный, приподнятый тон повествования, описывая мужество народного героя, осмелившегося поднять голос против жестокостей Грозного-царя. Однако торжественная церковнославянская речевая стихия то и дело перебивается народно-поэтическими реминисценциями, восходящими к сказочному и былинному жанру: речь идет о трехстах плахах, о трехстах топорах - “и триста палачей стояху у плахъ онех”.
Существенное значение для развития литературно-письменного языка имело начало книгопечатания в Москве. Книгопечатание в России было введено в середине XVI в., более чем на столетие позже, чем в западноевропейских странах. До этого первые образцы церковнославянских печатных книг издавались за пределами тогдашнего Московского государства, в Польше. С конца XV-начала XVI вв. в Кракове работала типография Швайпольта Феоля, печатавшая богослужебные книги на церковнославянском языке для Западной Руси, а также для балканских Стран, находившихся тогда уже под властью Турции.
В первые годы XVI столетия делаются попытки наладить печатание славянских богослужебных книг в Новгороде. С этой целью новгородский архиепископ Геннадий вел переговоры с немецким типографом из города Любека, Варфоломеем Готаном. Однако переговоры закончились безрезультатно. В переписываемые от руки богослужебные книги писцы постоянно вносили ошибки, искажения, далеко отводившие богослужебные тексты от их оригиналов. На это обратил внимание в своей переводческой и литературной деятельности Максим Грек (Триволис), вызванный около 1518г. в Москву по приказанию великого князя Василия III с целью исправления и сверки с оригиналами переводов богослужебных книг. Позднее, в 1551 г., об этом же говорилось и на Стоглавом церковном соборе в Москве в присутствии царя Ивана Грозного. Собор вынес постановление о необходимости, при переписывании книг “держаться добрых переводов”, однако специальное решение о введении книгопечатания не было принято.
В связи с потребностью исправления и унификации церковных книг по почину московского митрополита Макария была основана в Москве около 1553 г. при поддержке Ивана Грозного первая типография, как тогда называли, Печатный двор. Присоединение к Московскому государству областей Среднего я Нижнего Поволжья, населенных главным образом лишь недавно обращенными в православие народностями, делало нужду в таких исправленных книгах еще более ощутимой.
Печатный двор находился тогда в Китай-городе на Никольской улице (ныне улица 25 Октября). В первые десятилетия своего существования русское типографское дело развивалось под воздействием итальянского и южнославянского печатного искусства. Об этом свидетельствует, между прочим, до сих пор используемая терминология печатного дела, в которой много заимствований из итальянского языка, например: тередорщик печатник (ит. tiratore), батырщик накладчик краски на литеры (ит. attitore), марзан страница (ит. margina), штанба печатный станок (ит. stampa) и др. Анализ декоративного оформления русских печатных текстов-миниатюр, заставок, инициалов-тоже говорит об итальянском (или южнославянском) воздействии на изобразительное мастерство наших первопечатников.
Первыми русскими (церковнославянскими) печатными книгами были недатированные издания 1550-х годов. Среди них называют важнейшие богослужебные книги: “Триодь Постную”, содержащую службы на великий пост, четыре различные “Псалтири”, по которым правились вседневные службы, одно “Евангелие”, и “Триодь Цветную”, включавшую службы на пасхальные дни. Все эти книги не имеют выходных данных. Наконец, в марте 1564 г. справщиками (редакторами и печатниками) Печатного двора Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем выпущена в Москве первая датированная книга славянской печати-“Апостол”, которая ознаменовала собою подлинное начало русского книгопечатания. В следующем, 1565 г. Иван Федоров выпустил два издания богослужебной книги “Часовник” с выходными сведениями. После отъезда Федорова и Мстиславца в Литву их работу продолжили справщики Никифор Тарасиев и Андроник Тимофеев Невежа, выпустившие в 1568 г. “Псалтирь”. После этого работа на московском Печатном дворе замерла. Печатание книг было перенесено в Александровскую слободу, тогдашнюю резиденцию Опричного двора Ивана Грозного, где в 1577 г. было подготовлено и выпущено еще одно издание “Псалтири”, после чего работа Печатного двора совсем прекратилась и была возобновлена в Москве лишь с 1587 г.
Работа Ивана Федорова и Петра Мстиславца по упорядочению текста при подготовке к изданию “Апостола” подробно освещена а статье Г. И. Коляды. Как показал этот исследователь, справщики подробно изучили все имевшиеся в то время в их распоряжении списки древнеславянского “Апостола” и внимательно выверили все встречающиеся в них разночтения, отдавая предпочтение тому текстовому варианту, который в большей степени удовлетворял их и по языку, и по смыслу.
При этом производилась последовательная замена слов устарелых и малопонятных более известными и распространенными. Так, слово климаты (греческое заимствование) было заменено на слово пределы или страны, слово макелия, тоже заимствованное из греческого, было заменено на славянское торжище. Вместо употребленного в рукописных “Апостолах” выражения “блюдете псы, блюдете злыа делателя” напечатано, как и в последующих изданиях той же книги, “блюдетеся от псов, блюдетеся от злых делателей”. Подобная замена объясняется тем, что к XVI в. глагол блюсти утрачивает одно из древних, когда-то свойственных ему значений остерегаться, беречься и приобретает буквально противоположный семантический оттенок. Аналогичное смысловое изменение пережили глагольные формы гони, гоните, которые получили новое значение преследуй. Поэтому выражение страннолюбив гоняще было заменено сочетанием страннолюбия держащеся. Подобный же образом существительное утроба в значении милосердие заменяется в тексте печатного “Апостола” словом милость, а выражение “съставлю же вам Фивию, сестру нашу” (от греч. Suni/sthmi в значении рекомендовать) изменено на выражение “вручаю же вам Фивию, сестру вашу”. . .Очень часто смысловая и текстологическая правка состояла во взаимной замене личных и притяжательных местоимений (нас, вас, наш, ваш) в более точном соответствии со смыслом контекста.
Как показывает сопоставление со словарными пособиями, рассмотренными в книге Л. С. Ковтун, источником языковой правки “Апостола” при подготовке его печатного издания, могли служить так называемые словари-“произвольники”, создававшиеся на русской и южнославянской почве для учета разночтений в рукописных текстах церковно-богослужебных книг. Выверка текста и установление “доброго перевода” печатных книг способствовали созданию единых норм официального письменно-литературного языка, так как на текст исправленных печатныхкниг в дальнейшем, равнялись и местные переписчики, подражая и в языке, и в технике графического воспроизведения книг московским авторитетным, одобренным самим царем изданиям.
С издательским делом и введением книгопечатания связаны начавшиеся во второй половине XVI в. работы по лексической, грамматической кодификации официальной церковнославянской разновидности письменно-литературного языка. Правда, подобные труды вначале появляются не в Московском государстве, а в той части бывших восточнославянских земель, которые к XVI в. оказались под властью Польско-Литовского государства,
Около 1566 г. Иван Федоров вместе со своим верным помощником Петром Мстиславцем покидает Москву и направляется в пределы Литовского великого княжества. Как показывают исследования, отъезд Ивана Федорова из Москвы не должен расцениваться как вынужденное бегство. Очевидно, он был направлен за границу тогдашним московским правительством с целью поддержать в Великом княжестве Литовском православную партию, боровшуюся за сближение с Москвою и нуждавшуюся в помощи при налаживании типографского дела. Этим Иван Федоров и начал усердно заниматься немедленно после своего переезда через рубеж сначала в Вильне, потом в Заблудове, затем во Львове и, наконец, в Остроге, где тогда создавался наиболее заметный центр славянской образованности.
За рубежом Иван Федоров выпустил в свет и первый грамматический труд. Правда, эта книга имеет весьма скромное заглавие-“Букварь”, однако на самом деле она значительно шире, чем пособие для начального обучения грамоте, и смело может рассматриваться как первый подлинно научный печатный труд по славянской грамматике. К этой книге (Львов, 1574) также приложена своеобразная хрестоматия наиболее распространенных текстов на церковнославянском языке. Книга, изданная Иваном Федоровым, служила самым лучшим учебным пособием для западнорусского юношества, желавшего закрепить свои знания и навыки в родном языке.
В западнорусских землях, принадлежавших тогда Речи Посполитой, появляются и другие грамматические и лексиграфические труды в конце XVI-начале XVII вв., что обусловлено обстоятельствами общественной борьбы того времени. Уроженцам Западной Руси приходилось в жестоких идеологических спорах отстаивать право на свою языковую и культурную самобытность против устремлений польских панов и католического духовенства подчинить себе во всех отношениях население тогдашних Белоруссии и Украины.
Одним из средств окончательного подчинения Западной Руси польским панам была Брестская уния, заставившая западнорусское высшее духовенство признать верховную власть папы римского (1596 г.). Однако народные массы не признали насильственной унии и с еще большей силой продолжали бороться против поработителей. Борьба протекала во всех сферах общественной жизни, одной из форм ее было развитие просвещения на славянском языке. Во главе борьбы стояли братства, просветительные массовые организации, создававшиеся во всех крупных городах Западной Руси. Братства открывали школы и академии, издавали полемическую литературу на славянском языке.
В Речи Посполитой, как и во всех западноевропейских странах в средние века, господствующим языком культуры и образования был латинский, подвергнутый схоластической обработке в отношении своего грамматического строя и лексики. Это определялось тем, что латинский язык изучался не по памятникам древней письменности, а в полном отрыве от них, в качестве некоей идеальной абстрактной нормы. Изучение производилось вопросно-ответным (катехизическим) методом: что есть грамматика? что есть имя существительное? сколько есть падежей? сколько есть склонений? и т. д.
Чтобы бороться с врагами их же оружием, необходимо было и церковнославянский язык довести до того же уровня грамматической обработанности, каким обладал тогда латинский язык. Поэтому западнорусские грамматические труды того времени уподобляют церковнославянскую грамматику греческой и латинской средневековой грамматике.
Необходимо назвать следующие грамматические труды, вышедшие в свет в Западной Руси во второй половине XVI в.
Это, во-первых, “Кграмматика словеньская”, изданная в городе Вильно в 1586 г. В этой книге излагается традиционное “Учение о осми частех слова”, которое восходит еще к античной эллинистической традиции и представлено в рукописях начиная с XII в.
В 1596 г., в самый год заключения Брестской унии, во Львове выходит в свет грамматика “Аделфотис”, изданная Львовским братством, в честь которого эта книга получила свое заглавие (аделфотис-по-гречески значит братство). “Аделфотис” была первым пособием для сопоставительного изучения славянской и греческой грамматик. Эта работа значительно расширила лингвистический кругозор тогдашних западнорусских читателей. Несколько ранее, в 1591 г., были изданы две книги, подготовленные украинским монахом Лаврентием Зизанием: “Лексис” (словарь) и “Грамматика”, расширившая круг изучаемых вопросов по сравнению с “Кграмматикой” 1586 г.
Наконец, уже в начале XVII в. появляется наиболее полный и основательный труд по церковнославянской грамматике. Таким справедливо может быть назван фундаментальный свод грамматических правил, изданный уроженцем Подолии Мелетием Смотрицким под заглавием: “Грамматики славенскiя правилное синтагма” (первое издание вышло в пригороде Вильно, селении Евье в 1619 г.). Книга вскоре завоевала самую широкую популярность, распространившись в нескольких изданиях и в рукописных списках по всем славянским православным странам. Издание М. Смотрицкого определило собою весь ход научного изучения церковнославянской грамматики на период более полутора веков.
Начиная со второй четверти XVII столетия главным центром западнорусской образованности и культуры становится Киев. Здесь действуют православные школы: Братская (Киево-Богоявленского братства) и школа Киево-Печерской лавры. При Киево-Печерской лавре основывается славянская типография, выпускающая как богослужебные книги, так и полемические произведения, написанные защитниками православия против католиков и против сторонников унии (униатов). В 1627 г. здесь же издан известный “Лексикон словеноросский и имен тлъкование” Памвы Берынды. В этой книге церковнославянская лексика объясняется “простою речью”, т. е. разговорным украинским языком. В необходимых случаях словарь дает также сопоставление церковнославянских слов с греческими, латинскими и древнееврейскими их эквивалентами.
По сравнению с “Лексисом” Зизания “Лексикон” Памвы Берынды значительно шире по составу словника. К словарю. присоединен указатель собственных личных имен, содержащихся в церковных “Святцах” с раскрытием греческих, еврейских и латинских значений этих имен.
В 1632 г. Братская и Киево-Печерская школы объединяются и по почину тогдашнего митрополита киевского Петра Могилы преобразуются в коллегию (с 1701 г. - академия) - первое восточнославянское высшее учебное заведение, стоявшее на уровне западноевропейских университетов и академий того времени. Академия эта, получившая затем название Могилянской (по имени ее основателя), включает в свой план научное изучение церковнославянского языка, наряду с греческим, латинским и польским.
В Киево-Могилянской академии получили высшее образование многие украинские и русские деятели просвещения и литературы XVII в., например, Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Димитрий Ростовский, Стефан Яворский. Отсюда берут начало те “эллинославенские стили” русского литературного (ученого церковнославянского) языка, которые с особенной силой дали себя знать в середине и во второй половине XVII в.
Возникновение ученой киевской разновидности церковнославянского языка первоначально затронуло развитие литературного языка в Московском государстве лишь косвенно, поскольку туда проникали лишь отдельные отклики словарной и грамматической нормализации церковнославянского языка, главным образом в виде рукописных копий с издававшихся в Западной Руси печатных трудов. В памятниках официальной московской литературы первых десятилетий XVII в. продолжает господствовать риторический “украшенный слог” как разновидность стиля “плетения словес” XV-XVI вв. Во время социальных волнений и иноземных нашествий, переживавшихся Московскою Русью в первой четверти века, было, можно смело сказать, не до литературы и не до просвещения. Лишь к 1630-1640-м годам, когда Московское государство оправилось от перенесенных потрясений и в Москве начали заботиться об издании книг, снова возник вопрос об исправлении богослужебных текстов, неоднократно поднимавшийся и церковными и гражданскими властями в XIV и XVI вв. (деятельность митрополита Киприана, Максима Грека, Стоглавый собор). В середине XVII в. в Москву для работы в качестве справщика Печатного двора приглашается киевский ученый Епифаний Славинецкий, за которым последовали и другие его соотечественники.
В 1648 г. на Печатном дворе в Москве было отпечатано третье, переработанное издание “Грамматики” Мелетия Смотрицкого, легшее в основу грамматической нормализации официального варианта церковнославянской формы литературно-письменного языка. Издание это было выпущено без имени автора, но зато с обширным теоретическим предисловием, приписанным перу известного деятеля московского просвещения начала XVI в. Максима Грека. Переработка затронула многие правила “Грамматики” Смотрицкого, (преимущественно парадигмы склонения, приблизив их к разговорной великорусской речи, а также системы ударений, которая в более ранних изданиях грамматики отражала нормы западнорусского произношения.
Таким образом, ученый тип церковнославянского языка возобладал и в официальной практике московских книжников. В соответствии с этой системой производилась правка текстов церковных книг при патриархе Никоне, а в 1653-1667 гг., положившая начало отделению старообрядцев, которые продолжали придерживаться старых московских норм церковнославянского языка, от господствующей православной церкви. Текстологические расхождения между никоновскими и дониконовскими редакциями церковных книг легко обнаруживают, что эти редакции опирались на различные традиции церковно славянского языка:
|
Дониконовская редакция |
Никоновская редакция |
|
во веки веком смертию на смерть наступив славнейшую воистинну серафим |
во веки веков смертию смерть поправ славнейшую без сравнения серафим. |
Сопоставления показывают стремление никоновских справщиков отойти от великорусских черт языка и сблизить тексты с их греческими оригиналами.
Ученый церковнославянский язык во второй половине XVII в. занимает господствующее положение в системе стилей складывающегося национального языка. Нормы официального церковнославянского языка, как выше сказано, сложились к началу XVII в. в пределах Речи Посполитой, закрепились в середине того же века в практике Киевской академии и, будучи Приспособленными к некоторым чертам великорусского произношения и грамматического строя, окончательно отобразились в московском издании “Грамматики” Смотрицкого 1648 г. В соответствии с данными нормами производилось исправление богослужебных книг по инициативе патриарха Никона. Ученый церковнославянский язык в практике московских книжников “эллино-славенского” направления стремился распространить сферу своего применения на все жизненные положения, на все жанры литературного изложения.
Наиболее разнообразно представлен ученый церковнославянский язык в произведениях Симеона Полоцкого, уроженца Белоруссии, питомца Киевской академии, с 1660-х годов отдавшего свой талант на служение Московскому государству, его культуре и образованности. Им была создана в Москве целая школа ученых, поэтов и писателей, продолжавших дело своего учителя в последние десятилетия XVII в. и в начале XVIII в.
К школе Симеона Полоцкого принадлежал Сильвестр Медведев (1641-1691), придерживавшийся латинофильских традиций, и Карион Истомин (кон. 40-х годов XVII в.-1717 г.), колебавшийся в своих симпатиях между западничеством и греко-фильством. Оба последователя школы Симеона Полоцкого, подобно своему учителю, соединяли деятельность справщиков Печатного двора и преподавание с литературным творчеством, в частности оба они получили известность как стихотворцы, сочинители виршей.
В произведениях Симеона Полоцкого, написанных им еще до переезда в Москву, дает себя знать западная, польская, языковая выучка. Вот отрывок из его “приветственных вирш”, написанных в 1659 г., в бытность учителем полоцкой Богоявленской школы:
Дай абы врази были побеждены, Перед маестатом его покоренны! Сокрушив ложных людей выя, роги, Гордыя враги наклони под ноги… Покрой покровом град сей православный, Где обретает тебе скраб твой давный.
В этом произведении редкий стих не содержит полонизма, украинизма или латинизма (маестат- величество). С переездом в Москву Симеон сознательно стремится освободить свой церковнославянский слог от наносных элементов. Он сам пишет об этом в предисловии к своему “Рифмологиону” (1679г.):
Писах в начале по языку тому, Иже свойственный бе моему дому, Таже увидев многу пользу быти Славенскому ся чистому учити. Взях грамматику, прилежах читати, Бог же удобно даде ю ми знати… Тако славенским речем приложихся; Елико дал бог, знати научихся; Сочинения возмогох познати И образная в славенском держати
(научился сочинять образные речения по-церковнославянски). Действительно, в “Рифмологионе”, в “Месяцеслове” или в “Псалтири рифмотворной” отступления от принятой в Москве церковнославянской нормы весьма редки, за исключением ударений, которые стихотворец нередко произвольно переставляет в угоду рифме, например: Во-первых, всякий купец усердно желает, Малоценно да купит, драго да продает…
или: Аз от тебе требую, да ся ты славиши, егда обиду мою судом та отмстиши.
Однако, по свидетельству Г. Лудольфа, с Симеоном Полоцким было связано представление о нем как о преобразователе церковно-книжной речи, стремившемся к ее упрощению. В “Грамматике” Лудольфа мы читаем: “Он по возможности воздерживался от употребления слов и выражений, которые непонятны массам (vulgo)”.
Церковнославянский язык Симеона Полоцкого не удовлетворял его московских учеников. Сильвестр Медведев, подготовляя издание стихов своего учителя, произвел в них существенные языковые замены, устранив полонизмы и украинизмы и заменив их русскими словами и выражениями. Так, формы едно, една исправляются на одно, одна; союз як заменяется союзом как; выражение тминными тмами збогатити - выражениемвящше много украсити и т. д. Исключаются такие синтаксические построения, которые, по-видимому, в большей степени были присущи юго-западной разновидности церковнославянского языка, чем московской. Например, второй творительный при глаголах называния заменяется вторым винительным: вместо царем и богом избрал ecu - царя и бога избрал ecu; формы наречий и деепричастий Медведев предпочел формам согласованных прилагательных или причастий: юже (молитву) твориши слезне вместо первоначально бывшего у Симеона Полоцкого выражения юже твориши слезен; аз что принесу, ничтоже убо таково имуще, нищ инок суще вместо ранее бывших форм причастий имущий, сущий и др.
Традиция писать книги самого различного содержания на ученом церковнославянском языке держалась еще и в первые десятилетия XVIII в. Этой традиции придерживались и Леонтий Магницкий, издавший в 1703 г. “Арифметику, сиречь науку числительную”, и составитель “Лексикона треязычного” Федор Поликарпов, и Феофан Прокопович, и др.
Вот какими стихами начинает Л. Магницкий свое напутствие молодому читателю “Арифметики”:
Прiими юне премудрости цвЬты Разумныхъ наукъ обтицаA верты. АриQмеiике любезно учисА, В ней разных правилъ и штукъ придержисA.
Как мы могли заметить из приведенных примеров, отличия ученого церковнославянского языка от русского языка того же времени заключались не столько в лексике и словоупотреблении, сколько в стремлении авторов строго соблюдать все правила славянской грамматики, что с особенной яркостью проявлялось в последовательном употреблении древних форм склонения и спряжения, в особенности же древней видо-временной системы глагольных форм - аориста, имперфекта, плюсквамперфекта,- в то время как в живом русском языке все эти формы уже давно были вытеснены современной формой прошедшего времени с суффиксом -л. На церковнославянском языке продолжали писать и говорить “азъ уснух и спах, восстах”, в то время как по-русски давно уже говорили “я уснул и спал и восстал”. Таким образом, к началу XVIII в. противопоставление церковнославянского языка русскому осуществлялось преимущественно, в сфере грамматики, а не лексики, хотя, конечно, и словоупотребление не может быть оставлено без внимания.
Литература, развивавшаяся на ученом церковнославянском языке, обслуживала во второй половине XVII в. придворные круги, высшее духовенство, учебные заведения. Что же касается других слоев населения Московского государства - поместных дворян, купцов, посадских людей, сельского духовенства,- то их познавательным и эстетическим потребностям удовлетворяла распространявшаяся в списках демократическая литература на языке, близком к деловым документам того времени, насыщенная в разной степени, в зависимости от сюжета и стиля произведения, народно-разговорными чертами речи.
Язык демократической литературы во второй половине XVII в. развивался иным путем, чем язык литературы официальной. Прежде всего необходимо отметить все усиливающееся воздействие на демократическую литературу устного народного творчества. До XVII в. произведения фольклора влияли на письменную литературу лишь косвенно. Так, в древних летописных рассказах отражались устные дружинные сказания, в летописи вносились отдельные пословичные выражения вроде “погибоша, аки обри” или “пчел не погнетше, меду не едать” и др. В целом же книжный язык почти не испытывал воздействий со стороны устно-поэтической речи. В XVII в. начинается непосредственная фиксация произведений устного народного творчества. Старейшей фольклорной записью является запись шести исторических песен, сделанная в Москве в 1619 г. для англичанина Ричарда Джемса, в которой сохранено не только содержание песен, но и поэтическая структура, и язык. Приблизительно к этому же времени относятся и древнейшие фиксации былинного эпоса, правда, не в форме стихов, а в прозаических пересказах. Ко второй половине XVII в. относятся довольно многочисленные сборники пословиц, один из которых был издан П. К. Симони в 1899 г. под заглавием “Повести или пословицы всенароднейшие по алфавиту”. Предисловие, написанное составителем сборника, носит черты обычного для того времени ученого церковнославянского слога. Однако в самих текстах пословиц церковнославянские речения, частично заимствованные из библии, встречаются сравнительно редко и уступают место пословицам народным, представляющим необыкновенное богатство языка и по остроумию и меткости, и по краткости и выразительности, и по звуковой организации речи. Приведем несколько примеров: “Ахъ да рукою махъ, и на том реки не переехать”; “Азь пью квасъ, а кали вижу пиво, и не про(й)ду ево мимо”; “Азъ буки вЬди страшит что медведи” “Артамоны едят лимоны, а мы молодцы едим огурцы”; “Без денег вода пить”; “Без денег в город - сам себе ворог”; “Елье, березье, то все деревье” и др. Здесь народная мудрость и народная речь сохранены без каких-либо изменений.
В форму народного былинного стиха облечен традиционно-книжный сюжет “Повести о Горе и Злосчастии” (“Как горе-злосчастие довело молотца во иноческiй чинъ”). В языке повести книжная церковнославянская лексика явно уступает разговорно-бытовой, например:
Молодец был в то время се мал и глуп, не в полном разуме и несовершен разумом:
своему отцу стыдно покоритися и матери поклонитися, а хотел жити, как ему любо. Наживал молодец пятьдесят рублев, Залез он себе пятьдесят другов…
Некоторые произведения бытового содержания по языку не отличаются от традиционных книг, например, ранние редакции “Повести о Савве Грудцыне”. В более поздних ее редакциях язык значительно ближе к разговорным формам речи. Целиком повествовательно-разговорный характер носит “Повесть о Фроле Скобееве”, относимая, правда, большинством исследователей уже не к XVII, а к началу XVIII в.
Стиль протопопа Аввакума
С наибольшей же силой проявились новые тенденции развития книжного языка в творчестве пламенного борца против казенной церкви и самодержавия “огнепального” протопопа Аввакума. Отстаивая дониконовские старые обряды, он тем самым защищал тот извод церковнославянского письменного языка, который был принят в Московском государстве XVI - начала XVII в., но вместе с тем во всех своих произведениях он смело смешивал этот старинный книжный язык с живым просторечием и северновеликорусской диалектной речью. Язык и стиль произведений протопопа Аввакума столь же противоречивы, как и все его творчество в целом.
Протопоп Аввакум постоянно подчеркивал, что он “небрежет о красноречии”, “о многоречии красных слов”. Он прямо называл язык своих произведений “просторечием”, или “природным” русским языком, противопоставляя его “виршам философским”, т. е. ученому церковнославянскому языку тех книжников, которые усвоили западнорусскую письменную культуру, основанную на латинском схоластическом образовании. Очевидно, в понимании протопопа Аввакума, “просторечие” связывалось с представлением о различных стилях разговорно-бытового русского языка, не имевшего тогда еще устойчивых норм, и церковнославянской, но старинной московской, а не ученой “витийственной” речевой стихией. Видимо, “природный” русский язык в толкований Аввакума объединял в себе русское просторечие и московский извод церковнославянского языка.
“Не позазрите просторечию моему,-пишет Аввакум в предисловии к одной из редакций своего “Жития”,- понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хощет”.
В. В. Виноградов правильно заметил, комментируя приведенное высказывание Аввакума, что “»просторечие» противополагается «красноречию», а не вообще церковнославянскому языку”.
Еще подробнее раскрывает протопоп Аввакум свои взгляды на русский язык в известном обращении к царю Алексею Михайловичу: “Воздохни-тко по-старому… добренько и рцы по русскому языку: господи, помилуй мя грешнаго… А ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос учил, так и подобает говорить. Любит нас бог не меньше греков, предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лутше тово? Разве языка ангельска?”
Таким образом, для Аввакума его “просторечие” противостоит и высоким “еллино-славянским” стилям ученого литературного языка той эпохи, и ухищрениям юго-западной книжйой риторики.
Свой стиль просторечия Аввакум не стесняется уничижительно назвать вяканьем: “Ну, старецъ, моево вяканья много веть ты слышалъ!” - Писал он в своем “Житии”. “Вяканьем” он обозначает, очевидно, разговорно-фамильярную форму уcтной речи, которая не подчиняется официально предписанным нормам “славенского диалекта” и характеризуется свободным проявлением живой, иногда даже областной русской речи.
В произведениях протопопа Аввакума мы обнаруживаем немало черт, присущих говору владимирско-поволжской диалектной группы, к которой принадлежал и говор села Григорова Нижегородского уезда, откуда происходил протопоп. Исследования проф. П. Я. Черных достаточно показательны в данном отношении.
Укажем здесь еще на две, как нам кажется, наиболее заветные синтаксически-фразеологические особенности. Это, во-первых, постоянное употребление так называемого постпозитивного артикля, т. е. форм местоименияот, та, то, те, согласуемых в падеже и числе с предшествующим существительным, например: “бес-от не мужик: батога не боится; боится он креста христова”; “как богородица беса тово в руках-тЬхъ мяла и тебе отдала… и как бес-отъ дрова-те сожег, и как келья-та обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо-то”.
Вторая диалектная синтаксически-фразеологическая черта, также присущая владимирско-поволжским говорам, состоит в употреблении повторяющегося глагола не знаю в своеобразной функции, приближающейся к функции разделительного союза, если высказывается сомнение. Приведем отрывок из “Жития”, где Аввакум рассказывает о своем пребывании в тюрьме Андроньева монастыря: “И тут на чепи кинули в темную полатку; ушла в землю, и сиделъ три дни, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю - на восток, не знаю - на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно… по исходЬ третьихъ сутокъ захотЬлось есть мнЬ; - после вечерни ста предо мною, не вЬмъ, ангел, не вЬмъ - человек, и по се время не знаю. Токмо в потемках, сотворя молитву и взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил и лошку в руки дал и хлебца немношко и штец дал похлебать,- зЬло привкусны, хороши! - и реклъ мнЬ: «Полно, довлЬет ти ко укреплению!». Да и не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало! Угодно только - человЬк, а что ж ангелу? ино тца - вездЬ не загорожено”.
В приведенном контексте названный оборот использован дважды. В первый раз в разговорной русской разновидности, в форме дважды повторенного глагола не знаю - пока речь идет о внешне-бытовом изображении подземной палатки. Когда же Аввакум переходит к повествованию о случившемся с ним чуде, тут и стиль меняется, включается церковнославянская лексика, однако оборот остается прежним, но дважды повторяется глаголне вем, придающий всему рассказу оттенок торжественности.
Таким образом, накануне петровских реформ унаследованный от Древней Руси традиционный литературно-письменный язык даже в произведениях наиболее стойких и убежденных противников никоновских церковных новшеств, приходит в живое и непосредственное соприкосновение с народным просторечием и с непринужденной диалектной речевой манерой, чтобы тем самым почерпнуть новые силы и возможности развития. И если сторонники реформы тщательно ограждали свою речь от проникновения в нее простонародных элементов, то их противники стихийно стремились к сближению с языком народных масс.
XVIII век
В ряду общественных реформ, проводившихся при участии Петра I, непосредственное отношение к истории церковнославянского и русского языка имела реформа графики, введение так называемой гражданской азбуки, т. е. той формы русского алфавита, которую мы до сих пор используем в обиходе.
Реформа русской азбуки, проведенная при непосредственном участии Петра I была лишь внешним символом расхождения между церковно-книжным языком и светскими стилями письменной речи. Гражданская азбука приблизила русский печатный шрифт к образцам печати европейских книг. Старая кирилловская славянская графика, служившая русскому народу во всех ответвлениях его письменности в течение семи веков, сохранилась после реформы лишь для печатания церковно-богослужебных книг. Таким образом, она, как писали исследователи в советское время “низводилась на роль иероглифического языка религиозного культа”.
После многолетней тщательной подготовки (шрифт типографии Ильи Копиевича в Амстердаме и в Кенигсберге) новый гражданский шрифт был окончательно утвержден Петром I в январе 1710 г. До нас дошли корректурные листы пробных образцов шрифта, с пометами, сделанными рукою самого Петра I и указывавшими, какие именно образцы букв из представленных на утверждение оставить и какие отменить.
Петровская реформа графики, не перестраивая коренным образом систему русского письма, тем не менее значительно способствовала ее облегчению.
Были устранены те буквы старославянского кирилловского алфавита, которые уже издавна являлись лишними, не передавая звуков славянской речи,-буквы кси, пси, малый и большой юсы. Как дублетная, была устранена буква зело. Всем буквам были приданы более округлые и простые начертания, приближавшие гражданский печатный шрифт к широко распространенному в те годы в Европе латинскому шрифту “антиква”. Отменены были все надстрочные знаки, применявшиеся в кирилловской славянской печати: титла (сокращения), придыхания, “силы” (значки ударений). Это все тоже приближало гражданскую азбуку в европейской графике и вместе с тем значительно упрощало ее. Наконец, были отменены числовые значения славянских букв и окончательно введена арабская цифровая система.
В это время в гражданском языке наблюдается волна заимствований.
Заимствования в течение первой четверти XVIII в. происходит преимущественно за счет заимствования слов из живых западноевропейских языков: немецкого, голландского, французского, частично из английского и итальянского. Наряду с этим лексика продолжает пополняться и из латинского языка. Посредничество польского языка, которое было столь характерно для XVII в., почти сходит на нет, и в Петровскую эпоху русский литературный язык приходит в непосредственное соприкосновение с языками Западной Европы. Мы можем отметить три основных пути, по которым осуществляются словарные заимствования. Это, во-первых, переводы с тех или иных языков книг научного или этикетного содержания. Во-вторых, проникновение иноязычных слов в русскую лексику из речи специалистов-иностранцев - офицеров, инженеров или мастеров, служивших на русской службе и плохо знавших русский язык. В-третьих, привнесение в русский язык иноязычных слов и речений русскими людьми, посылавшимися по почину Петра I за границу и нередко в течение долгих лет там учившимися и работавшими.
М.В. Ломоносов и его «Предисловие о пользе книг церковных».
В 1825 г. А. С. Пушкин следующими словами охарактеризовал разносторонность деятельности Ломоносова: “Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия,… учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка”.
В другой статье А. С. Пушкин, называя Ломоносова “самобытным сподвижником просвещения”, также подчеркивает универсальный характер его гения: “Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом” С этой верной, проникновенной характеристикой невозможно не согласиться.
Одной из самых выдающихся черт деятельности М. В. Ломоносова во всех областях, охваченных его творчеством, мы можем признать его способность соединять теорию с практикой. Эта черта сказывается в постоянном объединении его теоретических изысканий в точных науках (физике, химии, астрономии) с непосредственным применением их в технике и производстве. Например, она проявилась в основании им стекольного и фарфорового завода под Петербургом, предприятия, носящего сейчас имя своего основателя, а цветные смальты, изготовленные на этом заводе, служили Ломоносову материалом для выполнения художественных мозаичных картин, одна из; которых, “Полтавская баталия”, до наших дней украшает собою здание Академии наук в Ленинграде.
И в области филологии теоретические труды Ломоносова - “Риторика”, “Российская грамматика” - были неразрывно” связаны с его литературной деятельностью. Речения, иллюстрирующие то или иное изучаемое им грамматическое явление русского языка, Ломоносов извлекал обычно из своих стихотворных произведений или тут же сочинял стихи специально, так что в его грамматических трудах помещено как бы второе собрание его поэтических сочинений. “Стихотворство - моя утеха; физика - мои упражнения” - вот один из примеров, приведенных в “Российской грамматике”.
Природный речевой слух, активное, с детства усвоенное владение родной севернорусской диалектной речью, дополненное основательным изучением церковнославянского и древнерусского литературного языка, языков классической древности - латинского и греческого, живых европейских языков - немецкого и французского,- способствовали тому, что именно. Ломоносову оказалось под силу и упорядочить стилистическую систему литературного языка в целом, и разработать научны” функциональный стиль русского литературного языка, и преобразовать научно-техническую терминологию.
Ломоносов был первым в России ученым, выступавшим с общедоступными лекциями по точным наукам перед широкой аудиторией на русском языке, а не на латинском, как это было принято в европейской научной и университетской практике того времени. Однако средств, необходимых для выражения научных понятий, в русском литературном языке тогда еще почти не было. И Ломоносову прежде всего необходимо было выработать терминологическую систему для различных отраслей научного знания. Историки точных наук неоднократно отмечали выдающуюся роль Ломоносова в этом отношении.
Ломоносов при разработке терминологии держался следующих точно выраженных научных положений: “а) чужестранные слова научные и термины надо переводить на русский язык; б) оставлять непереведенными слова лишь в случае невозможности подыскать вполне равнозначное русское слово или когда иностранное слово получило всеобщее распространение; в) в этом случае придавать иностранному слову форму, наиболее сродную русскому языку”.
Взгляды на национальную основу русского литературного языка приблизительно в те же годы были сформулированы в виде совета начинающему писателю в произведении, озаглавленном “О качествах стихотворца рассуждение”. В этом произведении читаем: “Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собой разнствуют. И для того бери свойство собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно бывает в русском. Не вовсе себя порабощай однако ж употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить”.
Таким образом, Ломоносов отстаивает “рассудительное употребление” “чисто российского языка”, однако не отказывается от тех богатств речевого выражения, которые были накоплены за многие века в церковнославянском языке. В новом литературном языке, “ясном и вразумительном”, по мнению Ломоносова, следует “убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но при том не оставлять оных, которые хотя и в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно”.
Наиболее отчетливо и полно идеи Ломоносова, составляющие сущность его стилистической теории, которую обычно называют “теорией трех стилей”, изложены и обоснованы в знаменитом “Рассуждении (предисловии) о пользе книг церковных в Российском языке” (1757 г.).
Объективная значимость “Рассуждения…” определяется тем, что в нем Ломоносов строго ограничивает роль церковнославянизмов в русском литературном языке, отводя им лишь точно определенные стилистические функции. Тем самым он открывает простор использованию в русском языке слов и форм, присущих народной речи.
Начинает свое “Рассуждение…” Ломоносов оценкой роли и значения церковнославянского языка для развития русского литературного языка в прошлом. И здесь он воздает должное несомненно положительному воздействию языка церковных книг на язык русского народа. Для Ломоносова церковнославянский язык выступает прежде всего как восприемник и передатчик античной и христианско-византийской речевой культуры русскому литературному языку. Этот язык, по словам Ломоносова, источник “греческого изобилия”: “Оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно”. Церковнославянский язык обогатил язык русский множеством “речений и выражений разума” (т.е. отвлеченных понятий, философских и богословских терминов).
Однако, по мнению Ломоносова, положительное воздействие церковнославянского языка на русский не сводится только к лексическому и фразеологическому обогащению последнего за счет первого. Церковнославянский язык рассматривается в “Рассуждении…” как своеобразный уравнительный маятник, регулирующий параллельное развитие всех говоров и наречий русского языка, предохраняя их от заметных расхождений между собою. Ломоносов писал: “Народ российский, по великому пространству обитающий, не взирая на дальние расстояния, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например, в Германии, баварский крестьянин мало разумеет бранденбурского или швабского, хотя все того же немецкого народа”. Ломоносов объясняет однородность русского языка на всей территории его распространения и сравнительно слабое отражение в его диалектах феодальной раздробленности также положительным воздействием на язык русского народа церковнославянского языка. И в этом он прав.
Еще одно положительное воздействие языка славянских церковных книг на развитие русского литературного языка Ломоносов усматривал в том, что русский язык за семь веков своего исторического существования “не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было”, т. е. относительно устойчив к историческим изменениям. И в этом плане он противопоставляет историю русского литературного языка истории других языков европейских: “не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым их предки за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время”. Действительно, использование книг на церковнославянском языке, медленно изменявшемся в течение веков, делает древнерусский язык не столь уж непонятным не только для современников Ломоносова, но и для русских людей в наши дни.
Однако столь положительно оценив значение и роль церковнославянского языка в развитии языка русского в прошлом, Ломоносов для своей современности рассматривает его как один из тормозов, замедляющих дальнейший прогресс, и потому справедливо ратует за стилистическое упорядочение речевого использования восходящих к этому языку слов и выражений.
По Ломоносову, “высота” и “низость” литературного слога находятся в прямой зависимости от его связи с системой церковнославянского языка, элементы которого, сохранившие еще свою живую производительность, замыкаются в пределах “высокого слога”. Литературный язык, как писал Ломоносов, “через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий”. К каждому из названных “трех штилей” Ломоносов прикрепляет строго определенные виды и роды литературы. “Высоким штилем” следует писать оды, героические поэмы, торжественные речи о “важных материях”. “Средний штиль” рекомендуется к употреблению во всех театральных сочинениях, “в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия”. “Однако,- продолжает Ломоносов,- может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии сего штиля дольше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описание дел достопамятных и учений благородных” (т. е. исторической и научной прозе). “Низкий штиль” предназначен для сочинений комедий, увеселительных эпиграмм, шуточных песен, фамильярных дружеских писем, изложению обыкновенных дел. Эти три стиля разграничены между собою не только в лексическом, но и в грамматическом и фонетическом отношениях, однако в “Рассуждении…” Ломоносов рассматривает лишь лексические критерии трех штилей.
Ломоносов отмечает в этой работе пять стилистических пластов слов, возможных, с его точки зрения, в русском литературном языке. Первый пласт лексики - церковнославянизмы, “весьма обветшалые” и “неупотребительные”, например, “обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные”. Эти речения “выключаются” из употребления в русском литературном языке. Второй пласт-церковнокнижные слова, “кои хотя обще употребляются мало, а особенно в разговорах; однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насаждаю, взываю”. Третий пласт-слова, которые равно употребляются как у “древних славян”, так и “ныне у русских”, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю. Мы назвали бы такие слова общеславянскими. К четвертому разряду “относятся слова, которых нет в церьковных книгах”, например: говорю, ручей, который, пока, лишь. Это, с нашей точки зрения, слова разговорного русского языка. Наконец, пятый пласт образуют слова просторечные, диалектизмы и вульгаризмы, называемые Ломоносовым “презренными словами”, “которых ни в котором штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях”.
Рассмотрев указанные лексические пласты, Ломоносов продолжает: “от рассудительного употребления к разбору сих трех родов речений рождав три штиля: высокий, посредственный и низкий.
Высокий штиль должен складываться, по мнению Ломоносова, из слов третьего и второго рода, т. е. из слов общих церковнославянскому и русскому языкам, и из слов церковнославянских, “понятных русским грамотным людям”.
Средний штиль должен состоять “из речений больше в pocсийском языке употребительных, куда можно принять и некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако, остерегаться, чтобы не спуститься в подлость”. Ломоносов специально подчеркивал: “в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славянское положено будет подле российского простонародного”. Этот стиль, образуя равнодействующую между высоким и низким, рассматривался Ломоносовым как магистральная линия развития русского литературного языка, преимущественно в прозе.
Низкий штиль образуется из речений русских, “которых нет в славенском диалекте”. Их Ломоносов рекомендует “смешивать со средними, а от славенских обще неупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материи…” Он считал также, что “простонародные низкие слова могут иметь в них (в произведениях низкого штиля) место по рассмотрению”. 18 Тем самым давалась возможность проникновению просторечной лексики в язык литературных произведений низкого стиля, чем пользовался нередко и сам Ломоносов, и другие писатели XVIII в., разрабатывавшие эти жанры литературы.
Грамматическим и фонетическим чертам, характерным для того или иного стиля литературного языка Ломосонов уделяет внимание в других трудах, в частности в “Российской грамматике”, систематически разграничивая употребление тех или иных категорий. Обращая внимание на вариантность многих грамматических категорий в русском языке его времени (примеры см. ниже), Ломоносов неизменно соотносил эти видоизменения с употреблением их в высоком или низком штиле.
“Российская грамматика”, созданная Ломоносовым в 1755- 1757 гг., несомненно, может быть признана наиболее совершенным из всех его филологических трудов. Основное ее значение для истории русского литературного языка заключается в том, что это первая действительно научная книга о русском языке; в собственном смысле слова. Все грамматические труды предшествовавшей поры - “Грамматика” Мелетия Смотрицкого и ее переиздания и переработки, выходившие в течение первой половины XVIII в.,-представляли в качестве предмета изучения и описания язык церковнославянский. М. В. Ломоносов же с самого начала делает предметом научного описания именно общенародный русский язык, современный ему.
Второе не менее важное для истории русского литературного языка качество “Российской грамматики” определяется тем, что эта грамматика не только описательная, но и нормативно-стилистическая, точно отмечающая, какие именно категории и формы русской речи, какие черты произношения присущи высокому или низкому стилю.
Книга Ломоносова опирается на предшествующую традицию церковнославянских грамматик, на грамматики западноевропейских языков того времени, а главное, она охватывает живой речевой опыт самого автора, иллюстрировавшего каждое грамматическое явление примерами, созданными им самим.
“Российская грамматика” состоит из шести основных разделов, названных “наставлениями”, которым предшествует пространное “Посвящение”, выполняющее функцию предисловия, В “Посвящении” читается вдохновенная характеристика величия и мощи русского языка. Сославшись на исторический пример императора “Священной Римской империи” Карла V (XVI в.), который пользовался основными языками подвластных ему европейских народов в различных обстоятельствах своей жизни, разговаривая испанским языком с богом, французским с друзьями, итальянским с женщинами и немецким с врагами, Ломоносов продолжает: “Но есть ли бы он российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка”.
Величие и мощь русского языка явствуют, по мнению Ломоносова, из того, что “сильное красноречие Цицеронвво, великолепия Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи”. Русский язык достоин глубочайшего изучения “и ежели чего точно изобразить не может, не языку нашему, по недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем”. Эта характеристика может быть расценена как гениальное научное и поэтическое предвидение Ломоносова, ибо в его время русский язык далеко еще не развил всех своих возможностей, раскрывшихся впоследствии под пером великих русских писателей XIX в.
“Наставление первое” в грамматике Ломоносова посвящено раскрытию общих вопросов языкознания и озаглавлено “О человеческом слове вообще”. В этом же разделе дана классификация частей речи, среди которых выделяются в соответствии с давней грамматической традицией следующие “осмь частей знаменательных: имя, местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз, междуметие”.
“Наставление второе”-“О чтении и правописании российском”-рассматривает вопросы фонетики, графики и орфографии Говоря о различном произношении слов, свойственном различным наречиям русского языка (северному, московскому и украинскому), Ломоносов, будучи сам уроженцем Архангельской области и носителем севернорусского наречия, тем не менее сознательно отдает предпочтение московскому произношению. “Московское наречие,-пишет он,-не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты протчим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы о без ударения, как а, много приятнее”. По указанию Ломоносова, в высоком штиле буква в должна всегда произноситься без перехода в о. Произношение в ряде форм этой буквы как ио (ё) рассматривается им как принадлежность низкого штиля.
В “Наставлении третьем”-“О имени”-содержатся “правила склонений”. В качестве приметы высокого слога Ломоносов отмечает здесь флексию -а в род пад ед. числа муж рода твердого и мягкого склонения. Окончание-у в том же падеже рассматривается как примета низкого стиля “Русские слова,- пишет Ломоносов,- тем больше оное принимают, чем далее от славянского отходят”. “Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей,- продолжает он,- весьма чувствительно и показывает себя нередко в одном имени, ибо мы говорим: святаго духа, человеческаго долга, ангельскаго гласа, а не святаго духу, человеческаго долгу, ангельскаго гласу. Напротив того, свойственнее говорится: розоваго духу, прошлогодняго долгу, птичья голосу” (§ 172-173).
Подобное же стилистическое соотношение устанавливается Ломоносовым и между формами предложного падежа (кстати, отметим, что Ломоносов впервые ввел этот грамматический термин для обозначения падежа, ранее называвшегося сказательным) мужского рода на е (ять) и на у (§ 188-189).
Формы степеней сравнения на -ейший, -айший, -ший также признаются приметой “важного и высокого слога, особливо в стихах: далечайший, светлейший, пресветлейший, высочайший, превысочайший, обильнейший, преобильнейший”. При этом Ломоносов предупреждает: “но здесь должно иметь осторожность, чтобы сего не употребить в прилагательных низкого знаменования или неупотребительных в славянском языке, и не сказать: блеклейший, преблеклейший; прытчайший, препрытчайший” (§ 215).
“Наставление четвертое”, имеющее заглавие “О глаголе”, посвящено образованию и употреблению различных глагольных форм и категорий, и здесь также даны стилистические рекомендации.
В “Наставлении пятом” рассматривается употребление “вспомогательных и служебных частей словца”, в том числе и причастий, и содержатся важные стилистические указания. По мнению Ломоносова, причастные формы на -ущий, -ащий могут образовываться лишь от глаголов, “которые от славянских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют, например: венчающий, питающий, пишущий” (§ 440), а также от глаголов на -ся: возносящийся, боящийся (§ 450). “Весьма не надлежит, - писал Ломоносов, - производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны”, например: говорящий, чавкающий (§ 440), трогаемый, качаемый, мараемый (§ 444), брякнувший, нырнувший (§ 442). Примечательно также наблюдение Ломоносова о соотношении употребления причастных оборотов и параллельных им придаточных предложений со словом который. Причастные конструкции, - полагал Ломоносов,-“употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать через возносимые местоимения который, которое, которая” (§ 338, 443) .
Шестое “Наставление”, посвященное вопросам синтаксиса, озаглавлено “О сочинении частей слова” и разработано в “Российской грамматике” значительно менее подробно, что отчасти восполняется рассмотрением подобных же вопросов в “Риторике” (1748 г.). В области синтаксиса литературно-языковая нормализация, по наблюдениям В. В. Виноградова, в середине XVIII в. была сосредоточена почти исключительно на формах высокого слога.
Отметим, что Ломоносов в § 533 грамматики рекомендовал возродить в русском литературном языке оборот дательного самостоятельного. “Может быть со временем,-писал он,- общий слух к тому привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в российское слово возвратится”.
Следует заметить, что синтаксис литературного языка XVIII в. ориентировался на немецкий или латинский, в частности сложные предложения с причастными оборотами строились по образцу названных языков. Язык прозаических произведений самого Ломоносова в этом отношении не представлял исключения. В них преобладали громоздкие периоды, причем глаголы-сказуемые в предложениях, как правило, занимали последнее место. Равным образом и в причастных или деепричастных оборотах аналогичное место принадлежало причастным или деепричастным формам. Приведем в качестве примера отрывок из слова Ломоносова “О пользе химии”: “…Натуральныя вещи рассматривая, двоякого рода свойства в них находим. Одне ясно и подробно понимаем, другия хотя ясно в уме представляем, однако подробно изобразить не можем… Первыя чрез геометрию точно размерить и чрез механику определить можно; при других такой подробности просто употребить нельзя; для того, что первыя в телах видимых и осязаемых, другие в тончайших и от чувств наших удаленных частицах свое основание имеют”. В работах Г. Н. Акимовой убедительно показано, что разносторонняя деятельность Ломоносова и в области синтаксиса способствовала становлению “органической фразы” в современном русском языке.
Таким образом, стройная стилистическая система, созданная Ломоносовым для русского литературного языка середины XVIII в., стремилась охватить все компоненты языка и отвечала нуждам развивавшейся русской литературы, соответствуя принципам классицизма.
Во всем творчестве М. В. Ломоносова как ученого и поэта- в разработке им терминологии в качестве важнейшей предпосылки создания научного стиля, в его теоретических рассуждениях и поэтической практике - нашло живое отражение состояние русского литературного языка середины XVIII в. и подготовлены исходные позиции для дальнейшего совершенствования языковых норм и приближения их к разнообразным потребностям формирующейся русской нации.
Церковнославянский язык в последней трети XVIII века.
В последней трети XVIII века произошли серьезные изменения в области функционирования церковнославянского языка в русском обществе.
церковнославянская речевая культура, господствовавшая в русском дворянском обществе еще в середине XVIII в., при Ломоносове и Сумарокове, постепенно утрачивает свое ведущее положение и сменяется западноевропейским, главным образом французским воздействием на речь дворянства, а через него и на язык всего общества. Французский язык-язык великих просветителей: Вольтера, Дидро, Руссо - в то время являлся наиболее лексически богатым и стилистически развитым языком Европы.
В литературных произведениях, написанных выдающимися писателями второй половины XVIII в., мы находим немало свидетельств указанных языковых процессов.
Так, Д. И. Фонвизин в “Чистосердечном признании” (1790 г.) на личном примере изображает, как провинциальный дворянин в годы его юности сначала изучал русский язык по сказкам дворового человека и по церковным книгам, а затем, попав в Петербург и устремившись “к великолепию двора”, убеждался, что без знания французского языка в аристократическом кругу столицы жить невозможно. Он писал: “Как скоро я выучился читать, то отец мой у креста заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание, ибо, читая церковные книги, ознакомился с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно”. “Стоя в партерах, - пишет Д. Фонвизин о первых годах пребывания в столице,-свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась, но как скоро он спросил меня, знаю ли я по-французски, и услышав от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным молодым человеком, начал надо мною шпынять… но тут я узнал, сколько нужен молодому человеку французский язык и для того твердо предпринял и начал учиться оному”.
В произведениях Д. Фонвизина, в частности в ранней редакции “Недоросля”, мы находим изображение культурно-языкового расслоения в русском дворянском обществе той поры, борьбу между носителями старой речевой культуры, опиравшейся на церковнославянскую книжность, и новой, светской, европеизированной. Так, отец Недоросля, Аксен Михеич, высказывает свои мечты о том, чтобы “одумались другие отцы в чужие руки детей своих отдавать”. “Намеднись был я у Родиона Ивановича Смыслова и видел его сына… французами ученого. И случилось быть у него в доме всенощной, и он заставляет сына-то своего прочесть святому кондак. Так он не знал, что то кондак, а чтобы весь круг церковный знать, то о том и не спрашивай”. Между Аксеном Михеичем и Добромысловым (прообраз будущего Правдина) происходит следующая беседа о воспитании детей дворянства: “Аксен: Неужели-то ваш сын выучил уже грамоту?
Добромыслов: Какая грамота? Он уже выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, архитектуру, историю, географию, танцевать, фехтовать, манеж и на рапирах биться и еще множество разных наук окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть.
Аксен: А знает ли он часослов и псалтырь наизусть прочесть?
Добромыслов: Наизусть не знает, а по книге прочтет.
Аксен: Не прогневайся ж, пожалуй, что и во всей науке, когда наизусть ни псалтыри, ни часослова прочесть не умеет? Поэтому он и церковного устава не знает?
Добромыслов: А для чего же ему и знать? Сие предоставляется церковнослужителям, а ему надлежит знать, как жить в свете, быть полезным обществу и добрым слугою отечеству.
Аксен: Да я безо всяких таких наук, и приходский священник отец Филат выучил меня грамоте, часослов и псалтырь и кафизмы наизусть за двадцать рублев, да и то по благодати божьей дослужился до капитанского чину”.
Таким образом, традиционное церковнокнижное образование и воспитание сменяется светским, западноевропейским, проводниками которого были иностранные гувернеры. Хотя некоторые из них и не отличались высоким культурным уровнем, но в одном они всегда преуспевали: обучали своих питомцев непринужденно разговаривать на иностранных языках.
В комедии “Бригадир” (1766 г.), Фонвизин комически-сгущая краски, показывает языковое и культурное расслоение-русского дворянства. В его изображении речь различных групп” русского дворянского общества настолько различна, что он” порою даже не в состоянии понять друг друга. Бригадирша не понимает смысла условных метафор церковнославянского языка в речи Советника, вкладывая в них прямое, бытовое значение:
“Советник: Нет, дорогой зять! Как мы, так и жены наши, все в руце создателя: у него и власы главы нашея изочтены суть.
Бригадирша: Ведь вот, Игнатий Андреевич! Ты меня часто ругаешь, что я то и дело деньги считаю. Как же это? Сам господь волоски наши считать изволит, а мы, рабы его,. и деньги считать ленимся,-деньги, которые так редки, что целый парик волосов насилу алтын за тридцать достать. можно”.
В другой сцене бригадирша признается: “Я церковного-то” языка столько же мало смышлю, как и французского”.
Во втором действии пьесы с неменьшей комической заостренностью жаргон офранцузившихся “щеголей” и “щеголих”-противопоставляется просторечию дворян старшего поколения. Вот характерный диалог:
Сын: Моn реrе! Я говорю: не горячитесь.
Бригадир: Да первого-то слова, черт те знает, я не разумею.
Сын: Ха-ха-ха-ха, теперь я стал виноват в том, что вы по-французски не знаете”.
Подобных сцен взаимного непонимания немало в комедии “Бригадир”.
XIX-XX вв.
История церковнославянского языка XIX-XX в. практически не изучена. Академическая наука не обращалась к истории этого языка, т.к. возникший в XVIII-XIX в. интерес к старославянскому языку был связан с изучением сравнительной грамматики славянских языков, поэтому в центре внимания исследователей оказывались только древнейшие тексты. В духовных академиях история ц/сл. языка позднего периода также не разрабатывалась. Из книги в книгу переходило утверждение, что после исправления книг при патриархе Никоне и его преемниках язык и текст богослужебных книг оставался неизменным.
Пионером изучения ц/сл. языка позднейшего периода стал выпускник парижского Свято-Сергиевского института Б.И.Сове . Проанализировав случайные упоминания о выходе богослужебных книг в исправленном виде, рецензии и мемуары Б.И.Сове убедительно показал, что богослужебные книги XIX-XX в. имеют историю . Т.к. Б.И.Сове жил вне России, ему не были доступны архивные материалы и его работы оказались скорее программой, чем исследованием.
Приступая к изучению истории церковнославянского языка нового периода, мы сталкиваемся с серьезными источниковедческими проблемами. Приходится иметь дело с сотнями изданий одного и того же текста, причем в выходных данных богослужебных книг, как правило, отсутствует информация об исправлениях или же пересмотре текста. Сориентироваться в этом море изданий — непростая задача.
Мы будем опираться на тот факт, что контроль за богослужебными книгами всегда являлся обязанностью высшей церковной власти. Относительно контроля над богослужебными книгами мнение «Духовного регламента» практически не отличается от деяний Поместного собора 1917-1918 г . В обоих случаях постулируется жесткий контроль высшей церковной власти над исправлением богослужебных книг и введением в богослужебный обиход новых служб и акафистов. Отсюда следует, что изучение материалов синодального архива может дать возможность еще до просмотра выделить издания, при подготовке которых текст был подвергнут правке. Такие издания естественно являются для историка церковнославянского языка наиболее существенными. Именно на них исследователь истории церковнославянского языка должен сосредоточить свое внимание, отказавшись от время емкого сплошного просмотра.
Литургический, как и любой нормированный язык, изменяется в результате сознательной деятельности кодификаторов и справщиков. Поэтому историю литургического языка можно рассматривать как историю институтов, контролирующих издание богослужебных книг. Это хорошо вписывается в предложенную Н.И.Толстым схему истории литературного языка как последовательную смену эпох централизации (жесткое нормирование) и децентрализации (потеря строгости нормы и проникновение локальных явлений) . В истории цсл. языка эпохам централизации соответствует централизация издательской деятельности с сильными органами контроля за богослужебными книгами, в то время как для эпох децентрализации характерно обилие типографий, осуществляющих издание богослужебной литературы, и слабость централизованного контроля над богослужебными книгами.
Таким образом, уже на основе беглого просмотра архивных источников возможно составить приблизительную периодизацию истории церковнославянского языка. В результате такого рассмотрения исследователи получили следующую схему:
1)Синодальная эпоха — период максимальной централизации контроля;
2)Эпоха открытых гонений на Церковь (1918-1943) — период децентрализации.
3)Эпоха издательского отдела Московской Патриархии (1943-1987) — период централизации.
4)Эпоха перестройки и постсоветское время (1987- по настоящее время) — период децентрализации.
Рассмотрим каждый из периодов более подробно:
1.Синодальная эпоха (Период максимальной централизации) .
Все новые издания богослужебных книг утверждаются Синодом. Причем правом первого издания основного круга богослужебных книг обладала только Москва.
В середине XIX века вопрос о языке богослужения начинает обсуждаться в церковной печати, причем по сравнению с XVI-XVII вв. акценты этих споров заметно смещаются. Если раньше в центре внимания были вопросы текстологии (т.е. соответствие богослужебных книг греческому оригиналу или же кирилло-мефодиевскому переводу), то теперь центральными оказываются проблемы семантики. Предполагалось, что человек, говорящий по-русски и знакомый с правилами цсл. грамматики, должен однозначно понимать тексты, звучащие в церкви во время службы. О месте, которое занимала эта проблема в церковном сознании, свидетельствует тот факт, что когда в 1905 г. Синод разослал анкету о возможности церковных реформ, то почти треть опрошенных архиереев высказалась о необходимости сделать богослужение более понятным для мирян .
Стремлением сделать богослужение более понятным объясняются попытки создания при Синоде постоянно действующей комиссии по исправлению богослужебных книг.
В 1869 г. по инициативе митр. Московского Иннокентия (Вениаминова) в Москве создается комитет, занимающийся редактированием богослужебных книг, который работал над. исправлением Служебника, а также занимался нормализацией пунктуации в славянском Евангелии. Работа этой комиссии была продолжена синодальной комиссией, возглавляемой еп. Саввой (Тихомировым). Однако практические результаты деятельности этой комиссии были незначительны .
В 1907 г. при Синоде создается Комиссия по исправлению богослужебных книг, которую возглавил архиепископ Сергий (Страгородский). В работе Комиссии принимали участие крупнейшие слависты и литургисты своего времени: А.И.Соболевский, Е.И.Ловягин, И.А.Карабинов, И.Е.Евсеев, А.А.Дмитриевский и др. Комиссия успела подготовить новую редакцию Постной и Цветной триоди. Сохраняя цсл. орфографию и морфологию, справщики последовательно заменяли грецизированные синтаксические конструкции и слова, непонятные носителям русского языка. Из-за революционных событий новая редакция богослужебных книг не вошла в употребление. Большая часть тиража погибла .
Синодальная эпоха завершается Поместным собором 1917-1918 г. Работа Собора была насильственно прервана революционными событиями и многие его постановления, касающиеся богослужебного языка, были опубликованы лишь в последнее время. На Соборе вопросами языка и книжной справы занимался особый отдел «О богослужении, проповедничестве и храме», который сформулировал программу и основные принципы книжной справы . Возглавляемая арх. Сергием Комиссия по исправлению богослужебных книг должна была стать постоянно действующим органом.
Среди тем, которые должен был рассмотреть Собор был также вопрос о возможности богослужения на национальных (русском, украинском и т.д.) языках. В подготовленном проекте документа высшей церковной власти давалось право допускать переводы к богослужебному употреблению. Разрешения вводить переводы явочным порядком без санкции высшей церковной власти в этом проекте не содержалось. Поэтому раздающиеся в последнее время голоса об обновленческой ориентации этой стороны работ Собора лишены оснований.
2. Эпоха открытых гонений на Церковь (1918-1943) (Период децентрализации)
Отношение церковной власти к контролю над текстом богослужебных книг формально не изменилось. Однако реальная ситуация оказалась совершенно иной. Революционные события, государственные репрессии и конфискация всех церковных типографий привели к резкому сокращению числа изданий на церковнославянском языке. Проблемы языка и книжности если и обсуждались, то оставались на периферии церковного сознания. Невозможность осуществлять издания богослужебной (и вообще церковной) литературы вела к децентрализации книжной справы. Деятельность такова рода ограничивается кружками единомышленников. Новые службы и акафисты распространяются в машинописных копиях, лишь в исключительных случаях появляясь в печати..
В связи с декларациями обновленцев о необходимости радикальных литургических реформ проблема литургического языка вновь становится предметом дискуссии. Поскольку деятельность обновленцев в этом направлении ограничивалась лишь декларациями и малопрофессиональными переводами , дискуссии 20-х годов не внесли ничего нового по сравнению с полемикой начала века.
Т.о., для периода 1917-1943 можно говорить о лингвистических взглядах отдельных людей или группировок. Материалы этого периода содержатся в периодических изданиях 20-х годов, а также в частных архивах. Значительная часть материалов, относящихся к этой эпохе, безвозвратно погибла.
3. Эпоха Издательского отдела Московской Патриархии (1943-1987) Период централизации
Изменение характера взаимоотношений церкви и государства и возможность, пусть в скромных размерах, осуществлять издания богослужебной литературы ведет к наступлению нового периода централизации. На протяжении этого периода Издательский отдел Московской патриархии был единственным издательством, осуществляющим издание богослужебных книг на территории СССР , что несомненно явилось мощным унифицирующим фактором.
Вопросы литургического языка и книжной справы эпизодически обсуждались на заседаниях Синода в связи с утверждением к богослужебному употреблению новых служб и молитвословий. Однако лингвистические проблемы здесь не рассматривались . В 1957 г. при Патриархе была создана Календарно-богослужебная комиссия . Комиссия занималась в основном проблемами богослужебного устава, эпизодически обращаясь к вопросам книжной справы и редактирования богослужебных книг. Эта Комиссия, которую возглавлял деятельный участник Собора 1917-1918 г. еп. Афанасий (Сахаров), послужила связующим звеном между Поместным Собором 1917-1918 г. и изданием богослужебных книг 50-60-х годов . В истории цсл. книжности XX века еп. Афанасий занимает исключительное место.
Участник Собора 1917-1918 г., он стремился возобновить работу над богослужебными книгами, которая была прервана революционными событиями. В соответствии с программой Сергиевской комиссии им был исправлен круг служебных миней. Выполняя пожелание Собора 1917-1918 гг. о внесении в месяцеслов всех русских памятей, еп. Афанасий собрал огромную библиотеку машинописных и печатных служб русским святым. Язык этих служб также был несколько исправлен. Собрание еп. Афанасия легло в основу дополнений к изданным Московской Патриархией служебным минеям .
К этому периоду относится любопытный опыт пересмотра текста церковнославянских богослужебных книг по современному греческому тексту. Эта работа была непосредственно связана с проходившим в 1961 г. на о. Родос Всеправославным совещанием по подготовке Предсобора (Всеправославного Собора). Среди вопросов, которые предлагалось вынести на Предсобор был вопрос: «Единообразия уставного и литургического текстов в богослужении и совершении таинств. Пересмотр и научное издание» . В этой связи в Московской духовной академии в качестве курсовых работ осуществляется перевод на церковнославянский язык греческого Служебника. Строго говоря, здесь мы имеем не перевод, а пересмотр современного славянского Служебника по греческому тексту. Опыт продолжения не имел. Тексты переводов хранятся в библиотеке МДА .
Наиболее важным событием этого периода стало издание в 1978-1988 годах круга служебных миней. В это издание вошло огромное количество служб, прежде не публиковавшихся. По сравнению с дореволюционными минеями объем этого издания увеличился более чем вдвое. Незнакомство советских цензоров с цсл. языком и церковной историей позволило напечатать ряд текстов, содержание которых шло вразрез с тем, что в те годы считалось допустимым, в том числе и службу иконе Богоматери Державной.
4. «Перестройка». 1987- по настоящее время. Период децентрализации
Возникновение в конце 80-х годов значительного числа церковных издательств, печатающих среди прочего и богослужебную литературу, явилось началом очередного периода децентрализации. Репринтные переиздания богослужебных книг, относящихся к разным редакциям и лингвистическим традициям, привели к некоторому размыванию норм церковнославянского языка.
Одновременно в контексте полемики церковных консерваторов и реформаторов возобновляются споры о возможности богослужения на русском языке. Полемика сводится к общим местам. Вопросы переводческой техники, источников и т.д. спорящих как правило не интересуют. В связи с этими дискуссиями появляются новые переводы богослужебных книг. Это малопрофессиональные опыты, которые не имеют серьезного значения и являются шагом назад по сравнению с аналогичными переводами начала века.
Церковнославя́нский язык
Под именем Церковнославянского языка или старославянского языка принято понимать тот язык, на который в в. был сделан перевод Св. Писания и богослужебных книг первоучителями славян, св. Кириллом и Мефодием . Сам по себе термин церковнославянский язык неточен, потому что одинаково может относиться как к позднейшим видам этого языка, употребляемым в православном богослужении у разных славян и румын, так и к языку таких древних памятников, как Зографское евангелие , и т. д. Определение "древне-церковно-славянский язык" язык тоже мало прибавляет точности, ибо может относиться как к языку Остромирова евангелия , так и к языку Зографского евангелия или Савиной книги . Термин "старославянский" еще менее точен и может обозначать всякий старый славянский язык: русский, польский, чешский и т. д. Поэтому многие ученые предпочитают термин "древнеболгарский" язык.
Церковнославянский язык, в качестве литературного и богослужебного языка, получил в в. широкое употребление у всех славянских народов, крещенных первоучителями или их учениками: болгар, сербов, хорватов, чехов, мораван, русских, быть может даже поляков и словинцев. Он сохранился в ряде памятников церковнославянской письменности, едва ли восходящих далее в. и в большинстве случаев находящихся в более или менее тесной связи с вышеупомянутым переводом, который до нас не дошел.
Церковнославянский никогда не был языком разговорного общения. Как книжный он был противопоставлен живым национальным языкам. Как литературный он был нормированным языком, причем норма определялась не только местом, где был переписан текст, но также характером и назначением самого текста. Элементы живого разговорного (русского, сербского, болгарского) могли в том или ином количестве проникать в церковнославянские тексты. Норма каждого конкретного текста определялась взаимоотношением элементов книжного и живого разговорного языка. Чем важнее был текст в глазах средневекового книжника-христианина, тем архаичнее и строже языковая норма. В богослужебные тексты элементы разговорного языка почти не проникали. Книжники следовали традиции и ориентировались на наиболее древние тексты. Параллельно с текстами существовала также деловая письменность и частная переписка. Язык деловых и частных документов соединяет элементы живого национального языка (русского, сербского, болгарского и т.п.) и отдельные церковнославянские формы.
Активное взаимодействие книжных культур и миграция рукописей приводили к тому, что один и тот же текст переписывался и читался в разных редакциях. К XIV в. пришло понимание того, что тексты содержат ошибки. Существование разных редакций не позволяло решить вопрос о том, какой текст древнее, а следовательно лучше. При этом более совершенными казались традиции других народов. Если южнославянские книжники ориентировались на русские рукописи, то русские книжники, напротив, считали, что более авторитетной является южнославянская традиция, так как именно у южных славян сохранились особенности древнего языка. Они ценили болгарские и сербские рукописи и подражали их орфографии.
Вместе с орфографическими нормами от южных славян приходят и первые грамматики. Первой грамматикой церковнославянского языка, в современном значении этого слова, является грамматика Лаврентия Зизания (). В появляется церковнославянская грамматика Мелетия Смотрицкого , которая определила позднейшую языковую норму. В своей работе книжники стремились к исправлению языка и текста переписываемых книг. При этом представление о том, что такое правильный текст, с течением времени менялось. Поэтому в разные эпохи книги правились то по рукописям, которые редакторы считали древними, то по книгам, привезенным из других славянских областей, то по греческим оригиналам. В результате постоянного исправления богослужебных книг церковнославянский язык и приобрел свой современный облик. В основном этот процесс завершился в конце XVII в., когда по инициативе патриарха Никона было произведено исправление богослужебных книг. Поскольку Россия снабжала богослужебными книгами другие славянские страны, послениконовский облик церковнославянского языка стал общей нормой для всех православных славян.
В России церковнославянский язык был языком церкви и культуры вплоть до XVIII в. После возникновения русского литературного языка нового типа церковнославянский остается лишь языком православного богослужения. Корпус церковнославянских текстов постоянно пополняется: составляются новые церковные службы, акафисты и молитвы.
История возникновения Церковнославянского языка
см. Кирилл равноапостольный , Мефодий равноапостольныйНародноразговорная основа Церковнославянского языка
Осуществляя свои первые переводы, явившиеся образцом для последующих славянских переводов и оригинальных произведений, Кирилл , несомненно, ориентировался на какой-то живой славянский диалект. Если Кирилл начал перевод греческих текстов еще до поездки в Моравию , то, очевидно, он должен был ориентироваться на известный ему славянский диалект. А таким был диалект солунских славян, который, можно думать, и является основой первых переводов. Славянские языки в середине в. были очень близки друг другу и различались очень немногими чертами. И эти немногие черты указывают на болгаромакедонскую основу церковнославянского языка . На принадлежность церковнославянского языка болгаромакедонской группе указывает и состав народных (не книжных) греческих заимствований, что могло характеризовать лишь язык славян, постоянно общавшихся с греками.Церковнославянский язык и Русский язык
Церковнославянский язык сыграл большую роль в развитии русского литературного языка . Официальное принятие Киевской Русью христианства ( г.) повлекло за собой признание кириллицы как единственной, одобренной светской и церковной властью азбуки. Поэтому русские люди учились читать и писать по книгам, написанным на церковнославянском языке. На этом же языке, с прибавлением некоторых древнерусских элементов, они стали писать церковно-литературные произведения. В дальнейшем церковнославянские элементы проникают в художественную литературу, в публицистику и даже в государственные акты.Церковнославянский язык до XVII в. употреблялся у русских в качестве одной из разновидностей русского литературного языка. С XVIII же века, когда русский литературный язык в основном стал строиться на основе живой речи, старославянские элементы стали использоваться в качестве стилистического средства в поэзии и публицистике.
Современный русский литературный язык содержит в себе значительное количество различных элементов церковнославянского языка, подвергшихся в той или иной мере определенным изменениям в истории развития русского языка. Из церковнославянского языка вошло в русский язык так много слов и употребляются они настолько часто, что некоторые из них, утратив свой книжный оттенок, проникли в разговорный язык, а параллельные им слова исконно русского происхождения вышли из употребления.
Все это показывает, насколько органически вросли в русский язык церковнославянские элементы. Вот почему нельзя основательно изучить современный русский язык, не зная церковнославянского языка, и вот почему многие явления современной грамматики становятся понятными лишь в свете изучения истории языка. Знакомство с церковнославянским языком дает возможность увидеть, как в языковых фактах отражается развитие мышления, движение от конкретного к абстрактному, т.е. к отражению связей и закономерностей окружающего мира. Церковнославянский язык помогает глубже, полнее понять современный русский язык. (смотри статью Русский язык)
Азбука Церковнославянского языка
Азбука употребляемая в современном церковнославянском языке называется Кириллицей по имени ее автора Кирилла . Но в начале славянской письменности употреблялася так же другая азбука - Глаголица . Фонетическая система обоих азбук одинаково хорошо разработана и почти совпадает. Кириллица в дальнейшем легла в основу русской, украинской, белорусской, македонской, болгарской и сербской азбук, азбуки народов бывшего СССР и Монголии. Глаголица вышла из употребления и сохранилась только в Хорватии в церковном обиходе.Изводы Церковнославянского языка
Церковнославянский язык был литературным (книжным) языком народов, населяющих обширную территорию. Поскольку он был, в первую очередь, языком церковной культуры, на всей этой территории читались и переписывались одни и те же тексты. Памятники церковнославянского языка испытывали влияние местных говоров (сильнее всего это отражалось на орфографии), однако строй языка при этом не менялся. Принято говорить об изводах церковнославянского языка.В связи с разнообразием памятников церковнославянского языка находится трудность и даже невозможность восстановления его во всей первоначальной чистоте. Ни одной рецензии нельзя дать безусловного предпочтения относительно более широкого круга явлений. Относительное предпочтение должно быть дано паннонским памятникам, как более древним и наименее подпавшим влиянию живых языков. Но и они не свободны от этого влияния, и некоторые особенности церковного языка являются в более чистом виде в русских памятниках, древнейшие из которых должны быть поставлены вслед за паннонскими. Таким образом, мы не имеем одного церковнославянского языка, а только различные его как бы диалектические видоизменения, более или менее удаленные от первичного типа. Этот первичный, нормальный тип церковнославянского языка может быть восстановлен только чисто эклектическим путем, представляющим, однако, большие трудности и большую вероятность ошибки. Трудность восстановления увеличивается еще значительным хронологическим расстоянием, отделяющим древнейшие церковнославянские памятники от перевода братьев-первоучителей.
- Паннонский извод (от предполагаемых "Паннонских" славян, на язык которых было переведено Св. Писание: название, созданное "паннонистами-словинистами" и для "болгаристов" имеющее лишь условное значение), представляющая церковнославянский язык наиболее чистым и свободным от влияния каких бы то ни было живых славянских языков. Сюда принадлежат древнейшие памятники церковнославянского языка, писанные глаголицей и кириллицей .
- Болгарский извод получил особо широкое употребление в веке, при царе Симеоне , в так называемый золотой век болгарской литературы. Около половины XII века в нем замечается более сильное влияние известной группы народных болгарских говоров, дающее языку этой эпохи название "среднеболгарского". В этом измененном виде он продолжает служить языком болгарской духовной и светской литературы до XVII века, когда его вытесняет ЦСЯ русских богослужебных книг, печатанных в России, и живой народный язык (например, в так называемом Люблянском сборнике).
- Сербский извод окрашен влиянием живого сербского языка, он служил литературным языком и в золотой век сербской письменности (XIV - в.), и после. Даже в начале XIX в. (еще до реформы Вука Караджича , создавшего литературный сербский язык), ЦСЯ (с примесью русской окраски) служил основой сербского книжного языка, так называемого "славено-сербского".
- Древнерусский извод также появился очень рано. В папской булле г. уже упоминается о славянском богослужении на Руси, которое, конечно, совершалось на церковнославянском языке. По принятия Русью христианства он получил значение литературного и церковного языка и, окрашенный все более и более сильным влиянием живого русского языка, продолжал держаться в первом из вышеназванных употреблений до половины XVIII в., а в исключительных случаях - и дольше, оказав, в свою очередь, сильное влияние на книжный и литературный русский язык.
Памятники Церковнославянского языка
Церковнославянский язык дошел до нас в довольно многочисленных письменных памятниках, но ни один из них не восходит к эпохе славянских первоучителей, т. е. в. Древнейшие из этих памятников (если не считать не так давно найденной надгробной надписи г.), датированные и не датированные, принадлежат веку, значит, во всяком случае, отделены от эпохи первоучителей по крайней мере целым столетием и даже больше, а то так и двумя. Это обстоятельство, а также то, что эти памятники, за исключением некоторых, носят более или менее сильные следы влияния различных живых славянских языков, обусловливает собой невозможность представить церковнославянский язык в том виде, в каком он являлся в веке. Мы имеем дело уже с позднейшей фазой его развития, часто с очень заметными уклонениями от первичного состояния, причем далеко не всегда представляется возможным решить, зависят ли эти уклонения от самостоятельного развития церковнославянского языка, или от постороннего влияния. Сообразно с различными живыми языками, следы влияния которых могут быть указаны в памятниках церковнославянского языка, эти последние принято разделять по изводам.Паннонский извод
Сюда принадлежат древнейшие памятники, писанные глаголицей и кириллицей:- Глаголические памятники
- Зографское евангелие , начало в., может быть конец в.
- Мариинское евангелие (того же времени, с некоторыми следами сербского влияния)
- евангелие Ассемани ( в., также не без сербизмов)
- Синайские псалтирь ( в.) и молитвослов, или Эвхологий ( в.)
- Сборник графа Клода, или Griagolita Clozianus ( в.)
- несколько незначительных по объему отрывков (Охридского евангелия, македонский листок и т. д.;
- Кириллические памятники (все в.)
- Саввина книга , (не без сербизмов)
- Супрасльская рукопись
- Хиландарские листки или Катехизис Кирилла Иерусалимского
- Евангелие Ундольского
- Слуцкая псалтирь (один листок)
Болгарский извод
Представляет черты влияния средне- и новоболгарского языков. Сюда принадлежат более поздние памятники XII , XIII , XIV в., как- Болонская псалтырь, конец XII в.
- Охридский и Слепченский апостолы, XII в.
- Погодинская псалтырь, XII в.
- Григоровичевы Паремейник и Триодь, XII - XIII в.
- Трновское евангелие, конец XIII в.
- Патерик Михановича, XIII в.
- Струмицкий апостол, XIII в.
- Болгарский номоканон
- Струмицкий октоих
- октоих Михановича, XIII в.
- многие другие памятники.
Сербский извод
Представляет влияние живого сербского языка- Мирославово евангелие, конец XII в.
- Волканово евангелие, конец XII в.
- Кормчая Михановича, г.
- Шишатовацкий апостол, г.
- Толковая псалтырь Бранка Младеновича, г.
- Хвалова рукопись, начало в.
- Никольское евангелие, начало в.
- Кормчая XIII - XIV в., описанная Срезневским,
- многие другие памятники
Хорватский извод
писаны угловатою, "хорватскою" глаголицею; древнейшие их образцы не старше XIII - XIV в. Родина их - Далмация и главным образом Далматинский архипелаг.Чешский или Моравский извод
Памятники весьма немногочисленны и невелики по объему. Отражают влияние чешского или моравского живого говора- киевские отрывки в., глаголические
- пражские отрывки - XII в., глаголические
- Реймское евангелие XIV в., глаголическая его часть
Древнерусский извод церковнославянского языка
Самый богатый по количеству памятников (все кириллические) с очевидными следами влияния живого русского языка (ж, ч вместо шт, жд: свеча, межю; o и e вм. ъ и ь; "полногласие", третье лицо ед. и мн. ч. на -ть и т. д.).- Остромирово евангелие - г. (списанное, очевидно, с очень древнего оригинала)
- 13 слов Григория Богослова
- Туровское евангелие
- Изборники Святослава г. и г.
- Пандект Антиохов
- Архангельское евангелие г.
- Евгениевская псалтырь
- Новгородские минеи и г.
- Мстиславское Евангелие - г.
- Юрьевское евангелие
- Добрилово евангелие г.
- Длинный ряд этих памятников заканчивается печатными книгами XVI века, среди которых главное место занимает Острожская библия , представляющая уже почти целиком современный церковнославянский язык наших богослужебных и церковных книг
Словинский извод
- Фрейзингенские отрывки, написаны латинской азбукой и ведут свое начало, по мнению некоторых, из в. Язык их не имеет ближайшей связи с церковнославянским языком и мог бы скорее всего получить название "древнесловинского".
Наконец, можно указать еще румынскую разновидность церковнославянского языка, возникшую у православных румын.
Литература
- Невоструев К. И., Мстиславово Евангелие XII века. Исследования. М. 1997 г.
- Лихачев Дмитрий Сергеевич, Избранные работы: В 3 т. Т. 1,3 Л.: Худож. лит., 1987 г.
- Мещерский Никита Александрович, История русского литературного языка,
- Мещерский Никита Александрович, Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX-XV веков
- Верещагин Е. М., Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971.
- Львов А. С., Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., "Наука", 1966 г.
- Жуковская Л. П., Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., "Наука", 1976.
- Хабургаев Георгий Александрович, Старославянский язык. М., "Просвещение", 1974.
- Хабургаев Георгий Александрович, Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки древнерусской книжности М., 1994.
- Елкина Н. М. Старославянский язык. М., 1960.
- Иеромонах Алипий (Гаманович), Грамматика церковно-славянского языка. М., 1991
- Иеромонах Алипий (Гаманович),Пособие по церковнославянскому языку
- Попов М. Б., Введение в старославянский язык. СПб., 1997
- Цейтлин Р. М., Лексика старославянского языка (Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.). М., 1977 г.
- Востоков А. Х., Грамматика церковно-словенского языка. LEIPZIG 1980.
- Соболевский А. И., Славяно-русская палеография.
- Кульбакина С. М., Хиландарские листки - отрывок кирилловской письменности XI-ого века. Спб. 1900 г. // Памятники старославянского языка, I. Вып. I. СПб., 1900.
- Кульбакина С. М., Древне-церковно-славянскiй языкъ. I. Введенiе. Фонетика. Харьковъ, 1911 г.
- Каринский Н., Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. Часть первая. Древнейшие памятники. Спб. 1904 г.
- Колесов В. В., Историческая фонетика русского языка. М.: 1980. 215 с.
- Иванова Т. А., Старославянский язык: Учебник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 224 с.
- Алексеев А. А., Текстология славянской Библии. С-Петербург. 1999.
- Алексеев А. А., Песнь Песней в славяно-русской письменности. С-Петербург. 2002.
- Бирнбаум Х., Праславянский язык Достижения и проблемы в eгo реконструкции. М.: Прогресс, 1986. - 512 с.
Статьи и книги общего содержания
- Церковнославянский язык в богослужении Русской Православной Церкви. Сборник / Сост. Н.Каверин. - М.: «Русский Хронографъ», 2012. - 288 с.
- А. X. Востоков, "Рассуждение о славянском языке" ("Труды Моск. Общ. любител. росс. слов.", ч. XVII, 1820, перепечатано в "Филологич. наблюдениях А. Х. Востокова", СПб., 1865)
- Зеленецкий, "О языке церковнослав., его начале, образователях и исторических судьбах" (Одесса, 1846)
- Schleicher, "Ist das Altkirchenslavische slovenisch?" ("Kuhn und Schleichers Beitra ge zur vergleich. Sprachforschung", т. ?, 1858)
- В. И. Ламанский, "Непорешенный вопрос" ("Журн. Мин. Нар. Просв.", 1869, ч. 143 и 144);
- Polivka, "Kterym jazykem psany jsou nejstar s i pamatky cirkevniho jazyka slovanskeho, starobulharsky, ci staroslovansky" ("Slovansky Sbornik", изд. Елинком, 1883)
- Облак, "Zur Wurdigung, des Altslovenischen" (Jagic, "Archiv fu r slav. Philologie", т. XV)
- П. А. Лавров, рецензия цитир. выше исследования Ягича, "Zur Entstehungsgeschichte der kirchensl. Sprache" ("Известия отд. русск. яз. и слов. Имп. акад. наук", 1901, кн. 1)
Грамматики
- Наталия Афанасьева. Учебник церковнославянского языка
- Добровский, "Institution es linguae slavicae dialecti veteris" (Вена, 1822; русский перевод Погодина и Шевырева: "Грамматика языка славянского по древнему наречию", СПб., 1833 - 34)
- Миклошич, "Lautlehre" и "Formenlehre der altslovenischen Sprache" (1850), вошедшие впоследствии в 1-й и 3-й тома его сравнит. грамматики слав. языков (первое издание 1852 и 1856 гг.; второе - 1879 и 1876 гг.)
- Schleicher, "Die Formenlehre der Kirchenslavischen Sprache" (Бонн, 1852)
- Востоков, "Грамматика церк.-славянского яз., изложенная по древнейшим оного письменным памятникам" (СПб., 1863)
- его же "Филологич. наблюдения" (СПб., 1865)
- Лескин, "Handbuch der altbulgarischen Sprache" (Веймар, 1871, 1886, 1898
- рус. перевод Шахматова и Щепкина: "Грамматика старославянского языка", Москва, 1890)
- Greitler, "Starobulharsk a fonologie se stalym z r etelem k jazyku litevske mu" (Прага, 1873)
- Миклошич, "Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus glagolitischen Quellen" (Вена, 1874)
- Будилович, "Начертания Ц. грамматики, применительно к общей теории русского и других родств. языков" (Варшава, 1883); Н. П. Некрасов, "Очерк сравнительного учения о звуках и формах древнецерковнослав. языка" (СПб., 1889)
- А. И. Соболевский, "Древний церковнослав. язык. Фонетика" (Москва, 1891)
Словари
- Востоков, "Словарь Ц. языка" (СПб., 2 т., 1858, 1861)
- Миклошич, "Lexicon palaeosloveuico-graeco-latinum emendatum auctum..." (Вена, 1862 - 65). Этимологии см. в назв. словаре Миклошича и в его же "Etymologisches Worterbuch der slavisc hen Sprachen" (Вена, 1886).
Хабургаев Г.А. Старославянский язык. Учебное пособие для студентов пед. института по специальности № 2101 "Русский язык и литература". М.,"Просвещение", 1974
Н.М. Елкина, Старославянский язык, учебное пособие для студентов филологических факультетов педагогических институтов и университетов, М., 1960